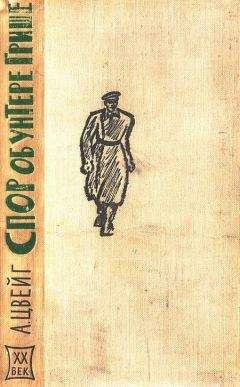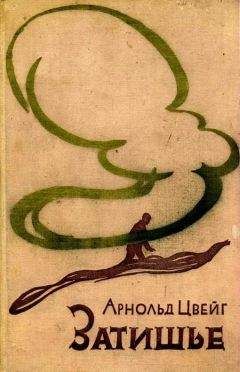А вот подползает черный зверь, рысь, с дьявольской мордой и ушами с кисточкой, вот она уже стала на задние лапы, готовая его растерзать, но трусливо убегает от его задорного смеха, свободных движений и брошенного им снежного кома.
И Гриша опять слабо и растерянно улыбается, вспоминая зверя, — теперь, когда он вот-вот ринется на него из пяти отверстий ружейных стволов, повалит наземь, убьет. Но давно подавленный и затертый действительностью инстинкт жизни перед смертью вновь ярко вспыхивает в глубинах души, зажженный верой в то, что какие-то частицы его существа все же спасутся от уничтожения.
В те доли секунды — от мгновения, когда пять пуль с неистовой силой вонзились в грязную ткань рубахи, увлекая ее за собою в теплое чувствительное тело, до смертельного разрыва наполненных кровью жил, судорожно бьющегося сердца, обильной легочной ткани, его страдания были так безмерны, так страшны, настолько выше сил человеческих, он сам был так разбит, придавлен, изничтожен, истоптан, что жгучий ужас этого унижения должен был бы стереть улыбку освобождения с его лица.
Но между тем, как его тело, как бы на шарнирах, перегнулось и упало навзничь и на снегу обозначился круг ярко-красной крови, — медленное, упрямое время уже было не властно над ним: тело уже не слышало боли.
На снегу лежал Григорий Ильич Папроткин, Бьюшев, он улыбался. Его лицо, мускулы, выражали такую радость, какой он сам уже давно не испытывал. Только глаза под платком кричали, они жутко вылезли из орбит от внутреннего смертельного удушья, когда кровь из артерий и вен заполнила легкие, остроконечная пуля пробила человеку сердце, а между ребрами в спине открылись маленькие острые отверстия… Со стен карьера посыпались камни, поднялась снежная пыль…
— Такой вот стрельбищный вал — самое подходящее дело, — сказал фельдфебель Берглехнер. — Штатские ревут, но солдаты держатся хорошо, — прибавил он, обтирая усы, будто выпил что-то. На самом деле он выпил собственную кровь, даже не замечая, что надкусил верхнюю губу, когда в последние, безумно напряженные секунды, скомандовал «пли».
Доктор Любберш — его красивое грустное лицо почти спокойно, как философ, он чувствует себя выше действительности, он точно защищен от нее непромокаемым плащом, — подошел к тому, что было Гришей, на мгновение опустился на колени перед этой улыбающейся, откинутой в сторону головой, страшно неудобно лежавшей на щеке, развязал платок, закрыл глаза Грише и сказал:
— Кончено, хорошо умер, гиппократова улыбка!
В истекавшем кровью мозгу в это мгновение еще жило то, что может быть названо жизнью, но никто этого не заметил: человек умирает гораздо медленнее, чем думают.
Лауренц Понт слез с лошади. Носовой платок в узелках, которым были прикрыты эти несчастные, полные отчаяния глаза, еще валялся на белом снегу, выделяясь на нем желтым пятном.
К платку не пристала ни одна капля крови, все шире расплывавшейся по снегу. Для Понта это было как бы символом: он, Лаурентиус Понтус, так же как Понтий Пилат, не несет вины за смерть невиновного.
Тем временем солдаты подняли предохранители ружей, торопясь вернуться с холода домой, в обычные условия жизни. Впереди были три бутылки водки и свободный вечер.
Продолговатая вещь, прикрытая палаточным полотном, оказалась гробом. Сначала никто не выказал охоты положить в гроб простреленное тело, пока оно еще было мягким и податливым. Унтер-офицер егерского отряда сказал, что фельдфебелю Шпирауге надлежало для этой цели затребовать солдат караульной команды. Кучер городского обоза все еще стоял, дрожа от холода, возле своей лошади, тупо глядя перед собою.
— Это не наше дело, — ворчали егери.
Недоразумение было улажено благодаря Лауренцу Понту и доктору Люббершу, которые изъявили готовность выполнить это дело. Фельдфебель Понт с мужественным и решительным видом слез с лошади — Зейдлиц при залпе только повела правым ухом, и Понт не мог удержаться, чтобы не похлопать лошадь по шее. Он снял перчатки, чтобы вместе с этим вылощенным евреем-врачом уложить в гроб мертвого шпиона. Несколько молодых стрелков все-таки протолкались локтями вперед и осторожно, чтобы не испачкаться, протащили мертвеца за руки и ноги по снегу — стеклянистая голова неприятно болталась у шеи, — аккуратно уложили, скрестили руки, придали ему спокойный вид.
Затем послышался звон бубенцов, показались быстро мчавшиеся сани, из которых выскочил поп с развевающимися полами рясы, спутанными длинными волосами и взъерошенной бородой, черной с проседью. Полицейский пост в деревне Бизасни задержал его, пока не получил по телефону подтверждение о спешности его поездки: теперь поп, в длинной, как у женщины, одежде, бросился на колени перед гробом и стал молиться за упокой души, которой грозили вечные муки в аду по вине дьяволов-еретиков.
Вновь сев на лошадь, Понт острым, внимательным взглядом окинул всю группу: вот коленопреклоненный поп сунул Грише в руки пеструю иконку в жестяной рамке, фельдфебель Берглехнер закурил сигарету.
Солдаты, не дожидаясь приказа, вновь выстроились. Кучер хотел завладеть наконец гробом, чтобы свезти его на кладбище, он беспокоился, кто же после ухода стрелков поможет ему поднять на сани тяжелый ящик. Понт беспрерывно зевал от одолевавшей его глубокой усталости. Он видел, как кучер с отвислыми усами, понурив голову, стоял возле гроба, не решаясь из чувства такта помешать попу.
Решил, что еврей-извозчик поможет кучеру при погрузке, Понт повернул лошадь к городу. Он охотно поскакал бы один, но Шпирауге погнал Лизу рядом с ним, Берглехнер также вскочил на своего мерина, старший врач, доктор Любберш, ловким прыжком сел на свою рыжую кобылу.
Громкий звук команды, ружья вскинуты на плечи, и шествие как бы рывком сворачивает на дорогу и направляется в обратный путь.
Понт ехал возле врача. Солдаты, очевидно, собирались петь, как обычно на обратном пути после похорон, ибо в звонком веселом мотиве походного марша победно звучит торжество вечной жизни над преходящей смертью.
«Мы представляем собою великолепное зрелище, — думает Понт. — Есть на что посмотреть! Четверо холеного вида всадников и шестнадцать солдат. Только одного не хватает. Никто о нем не печалится».
Люди возбужденно болтают и курят. Беззаботно, с полной уверенностью в своей непогрешимости, отряд возвращается обратно в лагери, к баракам, где палатки — из дерева, полотна, кожи или волнистого железа — так же манят к себе солдат, как священный очаг манит к себе прочих людей на земле.
Когда они опять свернули на шоссе, уходившее теперь под гору, унтер-офицер Лейпольт в самом деле предложил спеть.
И тотчас же из искусных солдатских глоток вылетела веселая песня о том, как чудесно поют птички в лесу, как радостна будет встреча на родине. Отчетливо, в три голоса, неслась песнь.
Подтянутые, с белыми зубами, блестящими от удовольствия глазами, они шли вперед, чувствуя себя силой, которой незачем стесняться: они могут позволить себе с шумом продвигаться по улицам.
К сожалению, под ногами хлюпал грязный снег, еще более мокрый, чем на пути туда. Завтра горожанам придется поработать большими деревянными лопатами — дорогу поистине можно было назвать ужасной, но надо же дать почувствовать свою власть всем этим русским и евреям.
«Как мало меняется человек и как грустно носить звание человека», — думал фельдфебель Понт.
Сидя у окна на Складской улице со стаканом чаю в руках, Бертин вдруг побледнел. Они убили его!.. Погодите-ка, что еще будет, когда мы победим. Тут уж мы, как носители морали, распоясаемся до конца! В комнате в три окна — какой-то чайной с равнодушными бледными подавальщицами — вдруг запахло кровью, хотя до того Бертин ощущал лишь слабый угар от застоявшегося дыма и затхлость помещения, в котором каждодневно бывало много народу. Он посмотрел на часы.
Вся процедура — он ждал здесь, пока шествие прошло туда и обратно, — отняла не более двадцати пяти минут. Он встал, прижался лицом к стеклу, посмотрел на поющих солдат — вскоре они стали видны только сзади — шлемы, шинели с приподнятыми сзади и спереди краями, пристегнутыми к специально приделанным крючкам. Он прикрыл глаза рукой и опустился на стул. «Свершилось», — хотел было он сказать, но это слово вызывало слишком неприятные ассоциации. «Прикончили, — подумал он. — Гриши нет! Да, аппарат власти оказался превосходным. Колеса у него крепкие. Раз он в действии, то в действии. Долго ли еще?» Он почувствовал, что не в состоянии больше оставаться один, ему захотелось к Познанскому, который лежал больной, с высокой температурой. Вероятно, простуда, но, может, быть, заболевание только психическое, «только» — какое значение имеет в такое время душа человека?
Тем временем в санях городского обозного парка везли по направлению к кладбищу, к окраине города, длинный ящик, покрытый красновато-коричневым палаточным полотном. Когда дорога повернула к городу, сани с попом отстали.