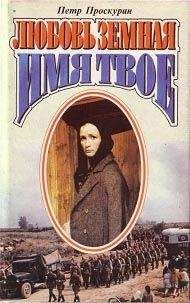Захара он отметил сразу, как только увидел его, осматривая вновь прибывшую партию пленных: выше других почти на голову, с каменно напряженным, худым лицом, Захар стоял во второй шеренге, стараясь, чтобы приземистый, упитанный и довольный собою обер-лейтенант как-нибудь не остановил на нем своего внимания, и все-таки какая-то несломленность, таившаяся в напряжении лица, в запавших, сумрачных глазах, ни разу прямо не глянувших на обер-лейтенанта, остановила внимание Штигля, и он тотчас с некоторым даже удовольствием отметил, как бы засек Захара, его глаза и лицо, в памяти и с неделю к нему присматривался. Затем однажды вечером Захара привели к только что поужинавшему обер-лейтенанту. Уютно устроившись в кресле, Штигль с удовольствием курил, поглядывая на стоявшего у дверей Захара; он отослал солдат, но на столе под аккуратно сложенной газетой лежал браунинг; успокаивающе темнела рукоятка с насечкой. Переводчик, лысеющий студент из Кёльна, был слегка пьян, и обер-лейтенант к этому уже привык; у них в какой-то мере давно уже сложились дружеские отношения, и на это имелись свои причины, о которых ни обер-лейтенанту, ни его переводчику просто-напросто не хотелось бы рассуждать с кем бы то ни было. Переводчик со странной веселостью в лице повернулся к Захару; ему давно надоело разговаривать с этими забитыми, истощенными людьми, первое же испытание срывало с них культурный слой, и оставалась первооснова животного, желание выжить, подбирать из грязи корм, лизать руку господина с плеткой; сквозь легкие винные пары переводчику приятно грезился иной мир, иные категории, и Захар Дерюгин в прозрении ненависти понимал блаженное состояние этого от чувства собственной значимости и безопасности на данный момент пьяненького, сравнительно хорошо устроившегося жить парня; сколько он их перевидал за время плена, но все они были для него на одно лицо. Вот и сейчас ему казалось, что он уже где-то раньше видел этого переводчика и что обер-лейтенант ему уже знаком. И это чувство помогало ему, усталость после каторжного дня тоже помогала; он стоял сейчас как бы в полусне, со свинцово затекшими, словно вросшими в пол, ногами. Так было легче стоять. Какими-то неясными тенями обозначались перед ним немцы; когда переводчик, уже начиная сердиться, возвысил голос, Захар разобрал его вопрос, показавшийся ему до того пустым, ненужным, что он, если бы мог рассмеяться, сделал бы это.
— Да кто же я? — переспросил он с досадой. — Человек, вот кто.
Улыбка яснее проступила на лице переводчика, он с неприкрытой иронией взглянул на обер-лейтенанта.
— Вот вам ваша страсть коллекционировать этот вид. Скучная работа, все они считают себя тем же высшим подвидом, что и мы с вами. Но, барон, так уж устроен мир, — переводчик вливал в свою речь и толику яда, и толику меда, иногда применяя прием слегка, вроде бы невзначай, притронуться к самому уязвимому в собеседнике.
«Барон! Господин барон!» — подумал переводчик, отмечая про себя, как встрепенулся обер-лейтенант, подобно старому рысаку, почуявшему во сне призывный звук боевой трубы, хотя захиревшая баронская ветвь Штиглей давно стала фикцией — ни поместий, ни денег, одна геральдика да гербы, рычащая львиная пасть, клыки и алый бархат. Переводчик, прекрасно об этом знавший, наслаждался действием, вызванным всего одним коротеньким словом, и почти забыл о пленном, он был даже неприятно удивлен, когда обер-лейтенант напомнил ему о деле.
— Природа интересна в любом проявлении, — сказал обер-лейтенант. — Среди них встречаются подобные экземпляры, я их безошибочно чувствую. Недаром сразу приметил эту азиатскую рожу.
— Чего ты хочешь? — спросил переводчик Захара, выполняя приказ.
— Ничего… Спать хочу…
В глазах обер-лейтенанта мелькнула брезгливость, он уже словно видел заинтересовавшего его пленного мертвым, но это была такая привычная мелочь, что обер-лейтенант тут же удивился своей вспышке. Оснований выходить из себя не было; обер-лейтенант покосился на переводчика, вольготно раскинувшего в бархатном кресле тощие, длинные ноги. Вечно пьяный красавчик начинал его раздражать, и между ними случился короткий диспут на тему о том, что такое виноградная лоза и какой продукт из нее получается при соответствующей обработке, и еще о том отличии между немецким солдатом и русским, что ставят первого на недосягаемую высоту. Своевременно вспомнив о долге в пять с лишним тысяч марок, обер-лейтенант вновь сосредоточил интерес на пленном, но необходимой остринки уже не получалось, и обер-лейтенант почти в миролюбивом тоне сообщил пленному все, что будет, если он не то что попытается бежать, а даже если подумает о побеге, и отпустил его; переводчик одобрил это решение сочувственным кивком и стал удобнее устраиваться в кресле, закурил и придвинул ближе к себе пепельницу. Он не ошибся, наступало самое главное: Штигль достал из шкафчика бутылку с коньяком, две рюмки, поставил на стол бисквиты. Дело в том, что барон Генрих фон Штигль, кроме всего прочего, с детства писал стихи, самые удачные бережно переписывал в изящный блокнот, а иные отсылал под псевдонимом «Генрих Штейнлиц» в газеты и журналы; некоторые из них, о любви к фатерланду и верности фюреру, печатали.
— У мена сегодня с утра дурное настроение, — сказал Штигль, разливая коньяк в рюмки, — я сегодня написал стихи об эдельвейсах и о маленькой девочке, она потерялась в лесу и долго звала маму, но к ней вышла лесная фея. Выпьем, Эрих, за поэзию и за тех, кто ее способен чувствовать!
— С удовольствием! — подхватил переводчик и, подняв рюмку, отхлебнул, задерживая коньяк во рту и наслаждаясь его легкостью и бархатистостью, — Барон, — сказа ч он, — у вас, как всегда, прекрасный коньяк! Где вы только, черт возьми, достаете? Это удивительно, вечер, русская глушь, грязь, вши — и божественный напиток, кровь Франции! Барон, читайте вначале о девочке, эдельвейсы потом! А до этого я еще хотел бы выпить, вы не возражаете, барон?
— Пейте, — сказал Штигль. — Но вначале я буду читать об эдельвейсах, иначе до вас не дойдет смысл второго стихотворения. Дети в моем представлении всегда связаны с цветами. В них есть что-то общее от солнца и невинности.
Переводчик выпил еще коньяку, закурил, полулежа в кресле, и, согласно кивая, приготовился к долгому ночному бдению; сегодня Штигль жертвовал непочатой бутылкой прекрасного французского коньяка, верный признак того, что он считал стихи удавшимися.
Эдельвейсы, эдельвейсы.
Вы глаза вершин,
Вы зов солдатской судьбы,
Вы таинственный знак в моей душе,
С которым я появился на свет
И который несу по дорогам мира.
Если я упаду и стану землей,
Вы прорастете из меня,
Эдельвейсы…
Штигль закрыл блокнот, отхлебнул из своей рюмки.
— Черт возьми! — сказал переводчик. — Барон, за это надо выпить, это действительно красиво! Это, несомненно, ваша удача, барон! Я хочу выпить за ваш талант!
Штигль с зардевшимися щеками поднял свою рюмку и наклонил голову; такой похвалы от своего единственного слушателя, знавшего наизусть множество старых германских мифов и почти всего Грифиуса, которого считал величайшим поэтом Германии вообще, — Штигль дождался впервые.
* * *
Две недели Захар присматривался к людям и порядкам в команде, к охране, а на семнадцатый день к вечеру бежал, воспользовавшись неожиданной паникой на станции, где они перешивали колею; он успел ухватиться за борт идущей мимо платформы с каким-то наваленным на ней грузом; ему едва не выдернуло руки, но он скорее согласился бы быть разорванным пополам, чем разжать пальцы; стремительная, безжалостная сила тянула его вбок, вниз, к гудящим колесам; сейчас вся его жизнь сосредоточилась в руках, в их мертвой, чугунной хватке; Захар отвоевывал жизнь по сантиметру, по два, подтягивая тело все выше, отрывая его от тяжести движения; он забыл обо всем на свете, и, когда перевалился через борт платформы, грудь хрипло приподнималась, в глазах двоилось, троилось, белая шелестящая муть закрывала небо. Он не знал, заметил ли кто-нибудь его бегство, и то, что по нему не стреляли, несколько успокаивало. По крайней мере у него было немного времени, и он заполз между какими-то тюками, по запаху он тотчас определил, что это сырые свиные и коровьи кожи, лишь слегка очищенные и присоленные. Мясо съели, а кожи по-хозяйски заботливо отправляли домой, в рейх, у них ничего не пропадает, подумал Захар, пытаясь остановить себя и сосредоточиться на главном.
Нужно было отдохнуть немного, он бы сейчас, кажется, не смог встать, стронуться с места, даже если бы это грозило немедленной смертью. Поезд продолжал набирать скорость; день, второй можно было продержаться и без еды. Ну а там… Захар не хотел думать сейчас, заглядывать, что будет «там», он слишком устал за два года плена, но главное в нем осталось, то самое упорство, всякий раз заставляющее его бежать снова и снова. Вот и сейчас поезд мчался, и от неба отражались стоны колес, небо словно заталкивало назад в землю эти непонятные людские силы, и у Захара, незаметно для себя вздремнувшего и вновь испуганно открывшего глаза, словно что просело в душе; он еще не верил в благополучный исход, но уже опять был человеком, который мог голодать, мог погибнуть, но мог теперь и распоряжаться самим собою вплоть до смерти. Этот случай с поездом и все дальнейшее, как потом оказалось, было лишь каплей в море, потому что Захар Дерюгин до этого за все два года плена не попадал в удушающий, мертвящий режим большого немецкого концлагеря, в котором все от секунды времени до основополагающих идей подчинено непрерывному уничтожению человеческого вообще, и когда он оказался в этом непререкаемо очерченном колючей проволокой огромном правильном квадрате с идеально похожими рядами одинаковых бараков и печей крематория и когда, возвращаясь по вечерам со строительства какого-то подземного завода, он начинал думать, что вот тут-то и пришел конец, жизнь послала ему новую и совершенно нелепую неожиданность; в круговороте миллионов человеческих существований, в тяжелом сцеплении судеб и случайностей Захару привелось встретить односельчанина, да не одного, двух мужиков старшего призывного возраста, мобилизованных в армию уже в самый последний момент, перед захватом Холмской области немцами.