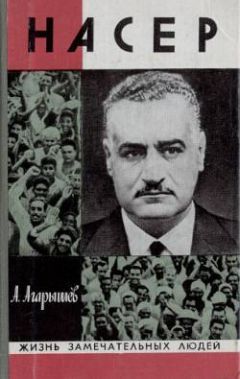– Вовсе нет! – реготал Шарру, обхватив девушку сзади и жадно всасывая широкими ноздрями аромат нарда, исходящий от ее густых черных волос.
(Шарецер, убедившись в том, что Дина обездвижена, не стал взбираться на верблюда – да там уже и места не было – а повел его под уздцы).
– Напротив, тебя ожидает море удовольствия. Для начала ты будешь освобождена от тяжкого и ненужного бремени, именуемого невинностью.
– Лучше убейте меня! – задохнулась Дина.
Вскоре верблюд остановился, а затем медленно и аккуратно подогнул сначала передние ноги, так что Дина с Шарру накренились было к шее животного, но тут же и задние, и опустился на землю. Шарецер легко, как перышко, взял на руки притихшую от ужаса девушку. Он шагал походкой крупного хищника, а вслед за ним семенил Шарру. Дину сквозь огромные, но кривые ворота внесли в какой-то темный двор. Тут появились двое факельщиков, и девушка увидела довольно большое, сложенное из разнокалиберных каменных глыб здание со входом, похожим на громадную черную пещеру. В эту пещеру Шарецер и внес Дину. Далее последовал коридор с тусклыми свечами в щелях между глыбами, и Дина оказалась в зале, ярко освещенной факелами. Воздух был пропитан сыростью. Дину швырнули на расстеленную на полу овечью шкуру, и подбежавший Шарру выполнил наконец свою мечту – дрожа от наслаждения, сорвал с плачущей Дины балахон. С сожалением оглядел пока что запрещенную ему, сжавшуюся в комок, девушку и отбыл.
Дина сидела на корточках, обхватив плечи руками. Пахло мускусом и миррой. Кто-то погладил ее по спине. Ко всему готовая, она даже не вздрогнула, а обреченно обернулась. Некто высоченный и волосатый тянул к ней руки, улыбаясь слюнявым ртом.
* * *
Ханаанские дубы – невысокие, куцые, с листьями изрезанными, а не обрамленными плавной волнистой линией, как листья европейских дубов. Все-таки хоть какую-то тень в жаркий день они давали. Сотни мужчин, явившихся сюда на общее собрание кое-как под ними разместились, но было настолько тесно, что вряд ли кого-то интересовало, что там скажет князь Хамор и его сын Шхем: все мысли были об одном – поскорее бы это закончилось, чтобы встать, потянуться и отправиться домой, где можно развалиться на подушках, набитых овечьим войлоком, или на жесткой, но прохладной циновке и наслаждаться жареной козлятиной с маслинами, запивая ее сладким отваром из слив и изюма или кислым сирийским вином. Тогда Хамор велел вбить в землю колья и натянуть верблюжьи шкуры. Стало не так жарко, но духоты прибавилось. Верблюжьи шкуры не пропускали не только лучи, но и воздух. К счастью, вскоре подул ветерок. Его наплывы теребили лозы на окрестных террасах, созданных трудолюбивыми шхемцами, и повсюду разлился дурманящий запах перезрелого винограда. Собрание можно было начинать.
Традиция собираться в Дубраве Учителя шла со времен Аврама. Деды нынешних шхемцев вместе с ним пришли из края, где некогда по велению царя Нимрода, он же Хаммурапи, человечество, в те дни еще единое, тщетно пыталось воздвигнуть башню до небес, дабы кавалерийским наскоком разобраться с Творцом. Вместе с Аврамом они же здесь и поселились. А на горе Эваль жертвенник построили. Чудесные были времена. Их тогда было человек сорок. Они рассаживались в кружок под дубами. Аврам вставал в центре, на пригорке, и рассказывал о сотворении мира, о смысле человеческого существования, о Вс-вышнем, Которому все мы бесконечно обязаны. Ветерок играл анемонами, родник, бьющий из-под скалы неподалеку, о чем-то перешептывался со стеблями дикого ячменя, и тень от горы Гризим расстилала прозрачный шатер, чтобы уберечь новоселов от жары. Увы, не успели вчерашние жители месопотамских равнин привыкнуть к обступающим их скалистым склонам, не успели обзавестись хозяйством, как Аврам объявил: «Кто со мной – со мной!» – и двинулся на юго-восток, в долину между Бейт-Элем и Аем. Каждый его шаг в постижении Вс-вышнего сопровождался новым земным странствием, новым жертвенником. Но люди устали от вечного восхождения. Кто-то двинулся с ним дальше, а кто-то остался в Шхеме.
Потом Аврама не стало. Он стал Авраамом. Но для жителей Шхема это было равносильно тому, что он умер. Кончился добрый Учитель, объясняющий, как тихо-мирно скоротать свою жизнь, чтобы и ближних не обидеть, и Вс-вышнему потрафить. Появился фанатик веры, требующий посвящать Творцу всего себя, каждое мгновение своего существования, появился специалист по выведению из собственных потомков суперпороды таких же одержимых, как и он сам. Никто из ровесников Шарру и даже Шарецера его уже, конечно, не помнил, но все так и представляли себе старика с горящими глазами, с пенной белой бородой, в головном покрывале, с которого осыпалась дорожная пыль. Из уст в уста передавался рассказ о том, как он, уже живя в Хевроне, посетил Шхем, со всеми встретился, все осмотрел и подытожил: «Здесь все по-прежнему. Никто и ничто не изменилось с тех пор, как я ушел отсюда». И, увидев добрые сентиментальные улыбки на лицах своих бывших учеников, неожиданно закричал: «Так чему вы радуетесь?! Получается, что все эти годы вы прожили напрасно!»
– И все же, – обращался Хамор к рассевшимся под навесами слушателям, – мы помним и ценим прежнего Аврама. Правила, которые он нам завещал – не идолопоклонствуй, не проклинай Творца, не убивай, не прелюбодействуй и так далее – мы стараемся по мере возможностей выполнять. И отвергаем эти новомодные байки о народце, который якобы станет Светом наций. Свет наций – это мы. Пусть неяркий, зато неназойливый.
Хамор оглядел свою паству. Перед ним были лица... Лица, лица, лица. Черные волосы, схваченные белыми головными повязками, бороды, у большинства завитые в соответствии с халдейским обычаем, но у некоторых – короткие и острые. Были и еще безусые лица. Но главное – глаза. Глаза, глаза, глаза... Они горели ярко. Ярко и гордо.
– Мы свет наций, – повторил, улыбаясь, Хамор. – Но мы не последовали призывам этого нового Авраама, изменившего прежнему Авраму. Мы отказались менять мир. Мир и так хорош – зачем его менять? Мир сотворен Единым! Попытка изменить его – кощунство. А что до самого понятия «Единый». Оно не отрицает того, что у Него есть слуги пониже – Мардук, Астарта! К ним мы обращаемся с каждодневными просьбами, чтобы не обременять Главного. А теперь – к делу…
* * *
Края черного войлочного шатра были подняты и подвязаны крепкими бечевками к шестам, на которых он был растянут. Благодаря этому в шатре хватало света и царила осенняя прохлада. Собственно, лишь в начале осени да в конце весны можно было целыми днями держать поднятыми крылья шатра – не слишком жарко и не слишком холодно. Посередине был постелен пестротканый ковер, по краям которого аккуратно размещались изящно расшитые, набитые козьим войлоком подушки для сидения. По углам ковра на высоких стойках держались глиняные светильники, сейчас не зажженные по причине солнечного дня.
Рядом находилась покрытая подстилкой глинобитная скамья на случай, если кто-то из гостей не поместится на ковре. А если вдруг и на скамье не хватило бы места, сбоку один на другом стояло несколько табуретов, грубо сколоченных, но довольно дорогих, поскольку сделаны были из такого ценного материала, как древесина. Поодаль за занавеской располагалась импровизированная кладовка, где хранились верблюжьи седла, сложенные коврики, скатанные циновки, а также меха с вином, водой и маслом. Здесь-то, у занавески, и притулился Шарру, тайком пробравшийся сюда по приказу Хамора в то самое время, когда остальные жители города выражали восторг правителю по поводу его хитроумного плана. Щель между занавеской и деревянным шестом давала вполне приличную возможность обзора.
Прямо перед Шарру на подушках друг напротив друга сидели два неразлучных брата из сыновей Яакова, оба с орлиными профилями, со всклокоченными бородами, в одинаковых серых рубахах, но на Леви была шерстяная шапочка, а на Шимоне – темный шерстяной наголовник, у Леви были каштановые локоны, а у Шимона – черная грива. Хотя день был нежаркий, вино они пили охлажденным – кувшин простоял несколько часов в ледяном ручье, вытекавшем из скалы под склоном горы Гризим. Шарру, несмотря на легкий полумрак, отчетливо видел, что наливают они вино в дорогие медные чаши и закусывают финиками. Возвышаясь над ними, на глиняной скамье сидели пятеро рослых слуг в набедренниках. По обычаю волосы ото лба и выше были у них выбриты, а по краям оставлены. Один из слуг жевал обернутую в листья мяты лепешку. Больше Шарру ничего толком не успел рассмотреть. Потому что в шатер вбежал мальчишка лет двенадцати и сходу буквально закричал:
– Они сговорились! Они сговорились!
Леви подскочил на месте.
– Кто сговорился? О чем сговорился?
– Спокойно, – сказал Шимон. Он поднялся с подушки и шагнул к мальчику. – Рассказывай толком.
Но мальчик не мог рассказывать толком. Его трясло, и сквозь слезы он буквально выхлипывал отдельные слова или обрывки фраз «Они... они хотят... всех нас убить... обрезание...» Шимон взял его за плечи, хорошенько тряхнул, а потом достал глиняный стакан и, налив в него вина из кувшина, поднес к губам мальчика: