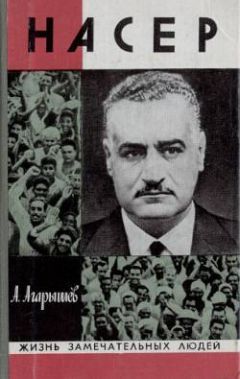Особенность климата Израиля заключается в том, что в смежных районах зачастую стоит совершенно разная погода.
Вот и теперь – в то время как на Шхем обрушилась буря, над поселением Канфей-Шомрон дело ограничилось небольшой упитанной тучкой, чьи края солнце аккуратно обшило золотой нитью, после чего начало из-за нее испускать лучи, широкие, как хвосты у комет.
– Вот здесь я жил, – сказал Эван, показывая на большой пустырь, который никак нельзя было заподозрить в том, что на его месте когда-либо был дом.
О том, что здесь некогда ступала нога человека, свидетельствовали лишь остатки изгороди вокруг зеленого пространства, на иврите называемого словом «гина» – нечто среднее между садом и газоном. Но тоненькая трехлетняя акация, о которой так беспокоился Эван в разговоре с Арье, была жива, хотя и совершенно не видна из-за обступивших ее сорняков. И стебли мальвы, длинные и косые, как жирафьи шеи, качались под январским ветром. Вот только цветов на них не было.
Тото, смешно перебирая лапами, выскочил на пустырь и начал кругами по нему бегать, временами надолго задерживаясь, чтобы обнюхать очередной клочок малой родины. Сгонял к разломанной автобусной остановке, возле которой в былые времена частенько сиживал, провожая грустным взглядом автобус с отъехавшим хозяином. Затем вернулся, сел с недоуменным видом, дескать, все хорошо, но дом-то кому мешал? Почесал задумчиво задней лапой за ухом. Вдруг бросил на Эвана совершенно человеческий взгляд – мол, думаешь, я дурак, не понимаю, какой это все ужас? И горько-горько заскулил.
Эван обернулся, чтобы что-то сказать Вике, и увидел, что та спит прямо на траве, сжавшись в комочек. Солнышко грело, куртка грела, позади была бессонная ночь. Ничего удивительного, что девчушка сварилась. Эван и Тото вытянулись рядом, причем Тото по-кошачьи завалился на спину, растопырил лапы и подставил пузо пригревшему солнцу. В такой позе он и захрапел.
Трава была свежей и нежной. Эван закрыл глаза и некоторое время так лежал, обследуя языком дырки между прореженными зубами. Подумал, что зубы выбили и дома выбили. Но зубы можно вставить, а дома отстроить. Потом все куда-то поплыло, и вдруг он увидел школу в Канфей-Шомроне. То есть наяву ее уже не было... или еще не было. Но он увидел.
И увидел мальчика-второклассника, сидящего за партой. В окне виднелось восстановленное здание Канфей-Шомронской синагоги и дома, дома, дома. Белые с красной черепицей, они казались парусниками, плывущими по зеленому озеру садов. Мальчик был весь в веснушках. Он был губаст и скуласт, как Эван, но смотрел на мир голубыми Викиными глазами. Сейчас из этих голубых глаз текли слезы.
– Учитель, – скулил мальчик. – Я забыл вот этот значок... и этот... и этот тоже забыл. Вот вы говорите, Раши – великий комментатор Торы. Но если он такой великий, зачем он стал выдумывать этот... как вы его называете... шрифт! Почему не мог писать нормальными ивритскими буквами? Ведь тысячу лет назад, когда он жил, они уже были придуманы.
– Успокойся, Натан! – раздался голос учителя. – Зачем был нужен специальный шрифт, мы с тобой потом разберемся. А пока я хочу объяснить, с чего Раши начинает свои комментарии. Видишь ли, Тора – это прежде всего набор заповедей. Вот и начиналась бы с заповедей – «Дескать, Пейсах празднуется тогда-то и так-то...» А вместо этого начинается она с сотворения мира – «В начале сотворил Б-г небо и землю». В чем же дело? Давай-ка вместе почитаем Раши.
Камера выплыла в окно, и Эван увидел школу со стороны – красивое двухэтажное здание, не чета скромной бетонной постройке, которая когда-то была на этом месте. Он увидел новый клуб, на котором была прибита золотая дощечка с надписью «Мерказ-Изак» – «Центр имени Изака», – и в горле у него засвербело, он увидел рава Фельдмана на балконе своего заново отстроенного, но довольно неказистого дома. Рав Фельдман был совсем седой. Он помахал Эвану морщинистой рукой и ушел в комнату. А два голоса – мужской и детский – слаженно произносили строки, написанные тысячу лет назад:
«Почему же Тора начинается с сотворения мира? Потому что, если скажут народы мира Израилю: «Разбойники вы, захватившие земли других народов», ответят им сыны Израиля: «Весь мир принадлежит Вс-вышнему, да будет Он благословен. Он сотворил его и дал земли тому, кто Ему угоден. По воле Своей Он землю эту дал им на время, потом по воле Своей отнял у них и отдал ее нам навсегда».
На этом заканчивается история возвращения евреев в Канфей-Шомрон и начинается история его восстановления.
Над наблусской долиной нависла туча. Тяжелая, жирная. Словно какое-то чудовище подмяло Шхем своим чугунным брюхом. На крышу сейчас не было смысла подниматься. Лучше через окно смотреть, как небо плетьми дождя сечет беззащитные здания. А вон там, на Кабире, где, словно змея Рубика, тянется Элон-Море с его белыми домиками, там просвет. Опять эти евреи выкрутились.
Даббе обнаружил, что еще держит в руках пульт от телевизора, который минуту назад выключил после того, как посмотрел новости и узнал обо всем – и о поражении «Мучеников», и о том, что начали восстанавливать Канфей-Шомрон, и о разоблачении Йорама Кацира и Абдаллы Таамри. На этих двоих ему наплевать, а восстановление поселений пока еще штука проблематичная. Момент они, конечно, выбрали правильный, только вряд ли что-то выйдет из их затеи. Скорее всего, израильтяне, как только силу почувствуют, свернут это дело. А вот то, что сорвался его план спровоцировать большую войну с Израилем – это обидно. И ведь как все было продумано. Он, укрывшись под псевдонимом «Даббет уль-Арз», накручивает Мазуза, отправляет ему одно электронное пророчество за другим, а куда бедолажке Мазузу обращаться-то, чтобы проверить, действительно ли есть в хадисах такое пророчество, которое, кстати, на него, Мазуза, намекает, или придумал кто-то? Естественно, к своему учителю, одному из крупнейших в Палестине специалистов по хадисам профессору Вахиду Мухаммаду Али. Так никогда Мазуз и не узнает, что «Даббе» и Вахид – одно и то же лицо, и что именно профессор Вахид подбивал своего ученика спровоцировать войну с сионистами.
Какая гениальная мысль: захват поселения Канфей-Шомрон – скорый и неизбежный приход ХАМАСа к власти, а вслед за тем – бесконечная война, которую Израиль выиграть не сможет, и, растеряв все духовные свои подпорки, как то: религия, сионизм, патриотизм – в какой-то момент просто начнет разваливаться.
Но выходит – все зря. Зря он присылал Мазузу по электронной почте, а затем зачитывал по телефону цитаты из несуществующего сборника хадисов Сунаджиба аль-Салиха, зря тратил силы на подделку старинного текста, который потом сканировал, зря, когда Мазуз к нему обращался, давал компетентное заключение, зря лгал, что в месяц мухаррам можно вести войны, что Даджаля одолеет не Исса, а человек с именем, похожим на название враждебного народа (ах, какое выходило чудесное созвучие – Мазуз – Маджудж), что Кинерет должен обмелеть лишь наполовину, а не полностью... А какая блестящая была выдумка, что Даджаль окажется между жизнью и смертью и будет подобен растению...Все – зря. Все – зря. Евреи в очередной раз победили. Но это полбеды. Откуда это мерзкое ощущение, что они не могли не победить? Что они и есть главные фигуры в человеческой истории, а он – вроде статиста? Вахид прошелся по комнате, подошел к окну. Горные хребты, потемнев, казались отражением туч. Они глядели на него мрачно, словно чужие. Казалось, родная земля кричит: «Я не твоя, я – их!»
Воздух словно наполнился какими-то прозрачными насекомыми. Начался дождь. Тяжелый зимний дождь.
А ведь борьба эта, можно сказать, по наследству ему досталась. От дальних предков, коренных жителей Наблуса, или, как его тогда называли, а евреи и сейчас называют – Шхема. Он ведь лишь когда в Аль-Бире преподавать начал, взял себе имя Мухаммад Али, а по рождению-то он Маджали. Измельчала его семья в последних поколениях. Отец, Махмуд Маджали, по молодости пытался было бороться. Да оказавшись в Арабском легионе, в Иордании, набрался всяких западных понятий, стал претендовать на «джентльменство», а под конец совсем свихнулся – продал свой дом за бесценок еврейским поселенцам и сбежал в Нью-Йорк.
Один брат, Хусейн, последовал за ним, предварительно продав свою землю евреям. На ней-то и построили этот треклятый Канфей-Шомрон. Другие братья заняты кто чем. Борьба с евреями их не вдохновляет. А Фаиз, брат от другой жены отца, так он еще в детстве помогал евреям их кладбище раскапывать. И это потомок легендарного Шарру! Отважного Акки! Так что остался он, Вахид, один. Чего он хочет? Что он ищет? Почему, запрограммированный прадедами, он все силы тратит на уничтожение евреев? Кто он? Не мусульманин – догмы ислама его не волнуют. Не араб – в отличие от своих братьев и даже от своего отца он не чувствует с арабским народом ничего общего, кроме ненависти к евреям. Не амалекитянин – те готовы были погибнуть, лишь бы прихватить на тот свет с собой как можно больше евреев. И погибли. Последний известный потомок Амалека, снимавший с фронта в разгар наступления русских войск целые дивизии, чтобы успеть уничтожить шестьсот тысяч венгерских евреев, был Адольф Гитлер. Он, Вахид, и не палестинец – такой нации не существует. Это знают все, и в первую очередь те, кто себя так называет. Не шхемец. Такого народа никогда не было, а группа людей, которую можно было бы обозначить этим словом, давно исчезла.