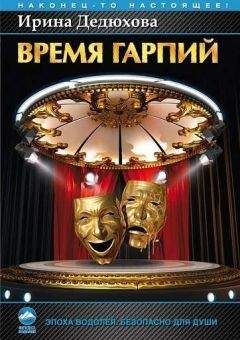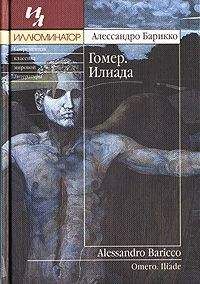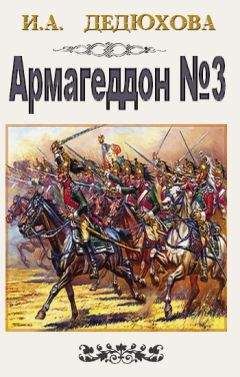После Гомера Лариса Петровна считала ниже своего достоинства ходить в кино на несодержательные фильмы о современной жизни. Производительности труда ей хватало и на папином заводе, а в любовь она верила лишь в самом возвышенном антураже исторических постановок. Вместо кино она решила осваивать музеи. Их в городе было целых два: один на папином заводе — о трудовой славе, а другой — краеведческий.
Краеведческий музей был раньше домом губернатора города, он стоял в маленьком запущенном парке, а за ним были замечательные качели, куда папа иногда в детстве водил ее качаться, если у него был не конец квартала. Он всякий раз поражался, сколько можно раскачиваться, и как ей не надоест. Мол, в автобусе девочку без приключений не провезешь, её укачивает, а на качелях — никаких проблем с головою.
В самом музее пахло как-то необычно, наверное, чем-то натирали паркет. Картины Ларисе Петровне не понравились, они несли мало познавательной информации. На них изображалась либо природа с подтекстом любви к родному краю, либо натюрморты без всякого подтекста. Натюрморты совершенно некстати вызывали аппетит, но Лариса Петровна стеснялась есть в музее, хотя всегда в музейные походы захватывала с собой бутерброд с сыром.
По-настоящему ее заинтересовал в музее лишь один портрет девушки в полный рост с волосами, перевязанными голубой лентой, в голубом же платье с чайной розой в руках. Много лет спустя Лариса Петровна выяснила, что это было платье-булль. Экскурсовод пояснила, что на портрете изображена дочь хозяина дома, которую заезжий художник избрал своей музой. Лариса Петровна так и поняла, что этот художник потом женился на своей музе.
Экскурсовод ей пояснила, что «муза» переводится с древнегреческого как «разумная», а музей — еще в Древней Греции считался жилищем муз. Но, глядя на старую мебель и облупившиеся стены, Лариса Петровна иногда казалось, что музей больше похож на кладбище навсегда ушедших времен, чьих-то несбывшихся надежд, всех муз вместе взятых.
На шее девушки с портрета висела странная камея на бирюзовой бархатной ленте. Через два года Лариса Петровна, уже став постоянной посетительницей всех музейных экспозиций, набралась смелости и поинтересовалась, что же за странное украшение изобразил художник на шее своей избранницы.
Пожилая дама, директор этого музея рассказала ей, что девушка вышла замуж и уехала из их города в Санкт-Петербург. А на ее камее была изображена гарпия, мифическая женщина-птица с мохнатыми толстыми лапами. И таких изображений всего три во всем мире, поскольку обычно гарпии изображаются с огромными птичьими лапами. По преданию, эта камея могла помочь своему обладателю увидеть гарпий, которые будто бы никуда не исчезли. Если несколько тысячелетий люди твердо знали, что гарпии бессмертны, с какой стати им исчезать лишь потому, что люди, проявляя извечное непостоянство, перестали в них верить?
Директриса показала Ларисе Петровне несколько сохранившихся писем девушки родным, где та поздравляла их со Святками, Рождеством и Пасхой. В письмах рассказывалось, как растут двое ее детей, как живут в Санкт-Петербурге их общие знакомые. Постепенно тон писем становился все тревожнее, а в последних письмах девятнадцатого года звучала обреченность и смирение перед судьбой. Дети и муж девушки с портрета погибли, а она сама дважды видела гарпий, круживших над темным городом. В последнем письме девушка прощалась навсегда с оставшейся в живых няней и извинялась, что никогда не сможет вернуться в город и навестить могилу родителей.
Директор музея и не подозревала, что своим рассказом подстегнула почти заснувшее увлечение древнегреческой мифологией их юной посетительницы. Лариса Петровна поинтересовалась, что же стало потом с этой девушкой с портрета? И директриса ответила, что по их данным, дочь градоначальника пережила революцию, гражданскую войну, но вряд ли смогла пережить блокаду.
После войны так и не удалось ее найти, хотя прежняя директор музея в середине пятидесятых годов пыталась навести о ней справки, считая, что та могла дать ценные краеведческие сведения. И ей тогда должно было быть уже около семидесяти лет, а в таком возрасте люди гораздо лучше помнят прошлое, понимая, сколько бесценных мгновений бытия кануло в Лету безвозвратно.
… Лариса Петровна выросла в странную девушку, которая приковывала взгляд любого, кто хотя бы раз видел иллюстрации картин Сандро Боттичелли. В ней было что-то от его Весны, одной из граций, Афины… С прекрасными бесплотными моделями Боттичелли ее роднило и отсутствующее грустное выражение, появившееся у нее в десятом классе после похорон отца.
Папа сгорел очень быстро. После какого-то обязательного медосмотра папу оставили в больнице. Он в растерянности позвонил маме, которая в назидательном тоне заметила, что ему действительно давно пора полечиться и «полностью обследоваться». Но на следующий день, отправившись проведать бывшего мужа с домашними разносолами, она пришла с белым лицом, в спутанном платке и кое-как застегнутом пальто, что совершенно не вязалось с ее культом чистоты и аккуратности. Врач отозвал ее в ординаторскую и честно сказал, что у папы — неоперабельный рак.
Мама перевезла папу из больницы домой, заверив его, что дела идут на поправку, просто поправляться с такими делами все-таки лучше дома. Через три месяца папа умер. Из этих трех месяцев в памяти остались только запах лекарств и постоянное шипение металлического футляра, где кипятились шприцы. Лариса Петровна бросалась то в магазин, то в аптеку. Все три месяца она с мамой качались на этих жутких качелях, когда надежда на чудо вдруг пронзала ее от макушки до пяток, и казалось, будто все кошмары уже позади. Но приговор врача так и остался окончательным, все так же горел огонек ночника, все так же она всхлипывала от стонов папы, слушала успокаивающий шепот мамы и ее тихий плач над корытом с простынями и наволочками.
На похоронах соседки под руки вели по их тенистому переулку заплаканную маму, пытавшуюся всем объяснить, что Петеньке она — не чужая. Девушки из бухгалтерии выбили им с мамой заводскую «Волгу» и помощь от профкома, а папина секретарь дотащила до «Волги» маму, рвавшуюся устроиться в грузовом фургоне возле папиного гроба, обитого красным кумачом. И, глядя на сосны, обрамлявшие городское кладбище, Лариса Петровна твердо решила выучиться на инженера, чтобы стать как ее папа.
Она методически перерывала всю справочную литературу в помощь поступающим в вузы, когда случайно увидела в мамином журнале «Работница» статью, называвшуюся «Мифическая девушка». Ни о каких древнегреческих мифах в статье не рассказывалось, просто девушка, о которой была написана статья, закончила в Москве вуз, называвшийся «МИФИ».
Участь Ларисы Петровны была решена. Получив аттестат зрелости, она собрала маленький чемодан, с которым ездила в пионерские лагеря от папиного завода и, наскоро попрощавшись с окончательно растерявшейся мамой, тем не менее, успевшей ей за ночь сшить бостоновую юбку, — отправилась становиться мифической девушкой.
…Получив после первой сессии повышенную стипендию, Лариса Петровна решила весь семестр методически изучать репертуар московских театров, тут же столкнувшись с проблемой приобретения билетов. Через непродолжительное время она выяснила, что довольно легко можно попасть только в Театр Советской Армии, в Кремлевский Дворец Съездов и на оперетту. Из всех мест, куда ее пускали без особых проблем, больше всего ей понравилось в Кремлевском Дворце Съездов. Кроме зрелищ, там подавали шампанское и жюльен в буфете. Иногда там можно было прикупить с лотка нечто прекрасное, вроде туши для ресниц «Луи Филипп».
В середине второго семестра она попала на слет первокурсников с подшефной группой. На слете она чинно сидела у костра с кружкой чая среди одних девчонок и дико скучала. И так бы погибла в расцвете молодых лет, если бы к ним случайно не забрели «на огонек» два юноши с гитарой. Их репертуара хватило на всю ночь, а все юные девы, включая Ларису Петровну, были поражены и впечатлены, наконец-то вполне насытившись художественными впечатлениями. При первых аккордах Лариса Петровна поняла, что мужское пение — это ее истинная слабость.
Всю ночь ей казалось, будто молодые люди поют только ей и лишь для нее. Они глядели ей в лицо, слово искали только ее одобрения. Она с удовольствием кивала им и первой хлопала в ладоши, ей хотелось, чтобы эта ночь длилась и длилась. Но под утро эти сирены в мужском обличье испарились, даже не представившись…
Детское увлечение Гомером тут же ударило в борт ее суденышка восторженной волной «Одиссеи», где особое место уделялось таким вот аэдам, певцам-мужчинам, исполнителям поэм и сказаний. Тут-то она поняла, что на самом деле ее так влекло к слепому певцу. И на какое мгновение ей даже показалось, что из старой самодельной книжки Гомер через века обращается только к ней, как к своей музе.