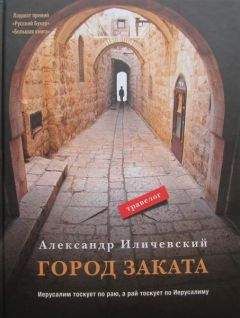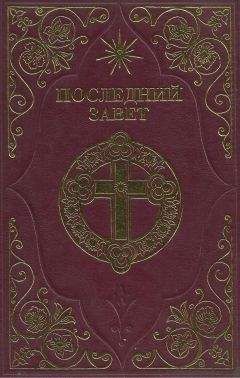62
Проще забыть свое имя, чем этот город.
Воздушный, светлый, его камни раскалены
добела Богом.
Он дрожит от осенних праздников от песен
покаяния, радости и прощения,
от флагов, полощущихся ветром, от стаи
скворцов,
певучей тучей развевающейся над
черепичными крышами.
На улицах порой некуда упасть яблоку,
будто вся Франция, весь Манхэттен
прибыли сюда насладиться отчизной;
каменистыми пляжами Кинерета,
песчаной подушкой Средиземноморья.
И чернильно-синее море предстает взгляду,
который направлен из глубокой
обдуваемой тени древнего портового сарая:
безупречно резкая линия горизонта и снопы
солнца,
завалившие пляж до неба. Там и здесь стучат
пляжным бадминтоном: «В Багдаде все спокойно!»
И море выглядит в точности как на картинах
Юрия Егорова — ослепительным шаром обратной,
усеянной бликами волн перспективы. Закат
затопляет горизонт, и красные флажки на тросе
в запретных для плаванья местах трепещут
языками
прозрачных ньюфаундлендов, стерегущих
купальщиков.
Я жил там — в этом воздухе, полном ангелов,
в этом щекочущем, будто пронизанном стаей
стрекоз,
воздухе. Временамй оказывался под полной луной
на горе
в одиночестве, спускаясь, чтобы подняться
на другую
иерусалимскую гору, чье подножье облеплено
горящим
планктоном окон; в каждом хотелось пожить.
Что мной было взято на память об этом городе,
что хранит ручей времени? — н
а дне его — камушки воспоминаний. Не скоро
время обточит их. Я спускаюсь к ручью и
становлюсь на колени, чтобы,
задыхаясь от жажды, напиться всласть
ослепительного забвенья.
Никогда не привыкну к мысли,
что мертвых так много: Мамаев курган,
поля подо Ржевом, Аушвиц, Треблинка, Дахау —
сгустки молчания. О, какой неподъемный
монолит молчания! Ни голоса, ни шепота оттуда.
Как трудно молиться в такой тишине.
Как непомерна тяжесть слова.
Так, значит, вот как выглядит небо
со дна древней могилы, заросшей маками!
Я плыву в тишине, и тлеющие закатом
верблюжьи горы
пропадают во тьме востока.
I
Мир завершен был только в двадцатом веке.
Нынче
он стоит по грудь в безвременье, и голова
еще ничего не знает о потопе, о хищных
рыбах,
но вода уже подобралась к губам,
и, слегка отплевываясь от брызг, они говорят
о двадцатом веке. О том, что этот век был
последним
и теперь осталось только вырасти, выйти
на мелководье, го есть повзрослеть, осознав,
что двадцатый век был веком апокалипсиса.
Иначе мы все утопнем.
II
Власть в мире слишком долго была в руках теней.
Беда началась задолго раньше — с братоубийства
вассальных соперничеств, иудовых поцелуев,
опричнины, разинщины, пугачевщины,
реформ Петра на человеческих костях,
бироновщины, декабристов, крепостничества,
Японской войны — Цусимы, Порт-Артура,
погромов,
с начала Первой мировой, с начала революции,
Гражданской войны, Брестского мира,
коллективизации,
голода, Большого террора, баварской пивной,
хрустальной ночи, Катыни, Ржева, Мамаева
кургана,
войны, войны и победы, борьбы с космополитами,
врачами, генетиками, диссидентами…
В результате Родина
окончательно превратилась из матери в мачеху
и низвела образ человека, сделала всё возможное,
чтобы сыны ее перестали ее любить.
III
Нелюбовь к матери — одно из самых
тяжких чувств — приводит к тому, что любовь
замещается ненавистью к себе и к другому.
Ненависть есть страх, а он близок к смерти,
ко лжи, небытию, ко всем тем стражникам,
что служат поработителям. Двадцатый
век оглушил и полонил человечество.
Теперь надо выйти из рабства. Накормить
Третий мир — обогреть, обучить, вылечить.
Привести к Аврааму его сыновей — Ишмаэля
и Ицхака.
IV
Что оставило нам в наследство
удобрившее забытье столетие?
Сонм исключений для
подтверждения правил.
Но первым делом двадцатый съел девятнадцатый.
Вместе со всеми идеями света,
верой в будущее и человека,
который отныне уже никогда, никогда —
ни через сто, ни через двести лет не станет
человеком. Дизель съел паровую машину.
Корпорации съели государство.
Банки переварили золото и платину в цифры.
V
Единственное, что вместе с болью
вселяет надежду, — то, что зло забывается.
Только бесчувствие способно помочь устоять
перед лавиной вечности. Неравнодушие
губительно.
Сначала тоска вас берет за жабры,
потом вы ощущаете себя несчастливым, и каждый
новый
день все гуще замазывает вам зрачки сажей.
А по вечерам вам надо вставать в очередь
за хлебом на завтра. И в этой очереди вас мучат
мысли о загробной жизни, что она
окажется еще хуже; и даже ничто, пустота
не кажется наградой, ибо вы опасаетесь,
что и там — за гробом — всё останется
по-прежнему. И потому вас охватывает
бесстрастие, холод и немота.
Иногда всё же что-то щиплет изнутри душу,
когда вы вновь обнаруживаете, что не способны
к любви — ни к женщине, ни к детям.
И приступы ужаса становятся реже, но сильнее.
Самые слабые из-за того, что утратили
жалкий ничтожный образ человека, готовы
свести счеты. Сильные, как всегда, выживают.
VI
Главное, чему научил двадцатый век, —
выживанию.
Ибо основная часть войны — молчание погибших.
Война, которую мы знаем, нам известна со слов
выживших.
Да и то — говоривших о ней неохотно. Победа
в их глазах была торжеством, но не избавленьем.
В двадцатом веке метрополии покинули
провинции
и междоусобье разграничили по дланям рек,
по позвоночникам горных хребтов или
провели границы рейсшиной. Ода радости
освобожденных народов была заглушена
плачем по цивилизации, ибо в такие места
цивилизация возвращается только вместе
с войной.
Средневековые святые навсегда замолкли при
виде
ипритовой дымки. Ядерный гриб над Хиросимой
выжег им глаза. С тех пор у нас развязаны руки.
VII
Теперь, как дождаться мессии? Окажется ли
он человеком? Группой соратников? Героем
социальных сетей? Великим анонимом?
Или целой эпохой? Неужели на белом осле
он въедет в замурованные Золотые ворота?
Когда из разбомбленного зоопарка Газы
сбежали любимицы детворы — зебры,
работник умело раскрасил ослов.
И дети были рады. Так как же
приготовиться и услышать поступь Машиаха?
Как не упустить момент? Бог видит
нашими глазами. Руки наши — Его.
История — божественное откровение.
Камни Иерусалима — срубленные головы
библейских великанов. Туча над ними
понемногу приобретает форму быка,
принесшего спящую Европу
к алтарю будущего Храма. Время
замедляется, подобно кораблю, неслышно
приближающемуся к причалу.
Когда в Иудейской пустыне к каменным ваннам
на дне пересохшего вади, к зеленым зрачкам
в выглаженных водным потоком глазницах
слетаются на водопой тучи капустниц —
белое облако психей порхает в скальных
уступах,
составляя твой силуэт. О, как мне стерпеть
твое появление? Как не кинуться с кручи,
чтобы достичь? Готические раскаленные скалы
устья реки, взрывающейся половодьем зимой:
из пустыни и со склонов Иерусалима
к Мертвому морю несется вода,
смешанная со щебнем, землей и валунами.
Сели грохочут в преисподней, ворчат.
Пустыня, в которой однажды я встретил себя
и был им искушаем, хранит молчание.
Горы тянутся под облаками стадом
мастодонтов кубизма. Тени ложатся, бегут,
будто по поверхности какой-то другой планеты.
Земля в этих краях неузнаваема.
Ливни стихают, и пустыня оживает эфемерами,
маками. Но скоро зеленая дымка блекнет,
горы затягиваются пепельным серебром,
и приходит день, когда белые бабочки вьются,
садятся тебе на волосы…
И солнечный сноп погружается в ртутное море.