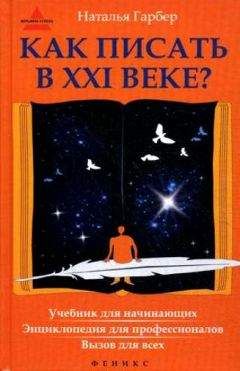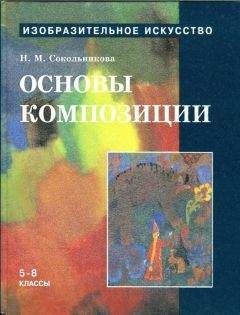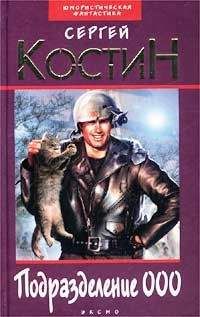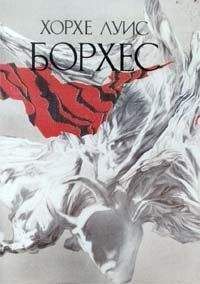В нашей стране в советское время многие великие писатели заплатили за собственный талант и славу головой, как покончившие с собой Маяковский и Цветаева, расстрелянный гений малой прозы прозаик Бабель или известный поэт Артем Веселый. Знаменитая рассказчица Тэффи вынуждена была эмигрировать и вести скудное существование в Европе, «скрашивая невзгоды игрой» в виде собственных рассказов. Бунин, Куприн и Набоков эмигрировали успешней, но безвозвратно. Великого мастера Зощенко затравили — в конце жизни он зарабатывал переводами и работал сапожником. Судьбы Ахматовой и Пастернака были не легче, каждая по-своему.
Платонов умер от туберкулеза, которым заразился, ухаживая за вышедшим из заключения сыном. Великий поэт Мандельштам умер в пересыльном лагере во время второго срока за стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…», и могйла его не известна. Варлам Шаламов был осужден в войну за заявление, что Бунин — русский классик, потерял здоровье, но выжил, чтоб написать «Колымские рассказы». Гениальный Даниил Хармс умер во время блокады Ленинграда в отделении психиатрии больницы тюрьмы «Кресты». Солженицын был приговорен к вечной ссылке после лагерей.
Многие из оставшихся на свободе писали в стол, даже не надеясь на публикацию: гениальный роман «Мастер и Маргарита» был опубликован с купюрами через 26 лет после смерти Булгакова. Шукшина, автора первого русского рассказа о свободе личности «Алеша Бесконвойный», в 45 лет убила язва. В менее людоедские застойные времен Даниэля с Синявским посадили, а Бродского выслали «за тунеядство». Дивную Петрушевскую в СССР не печатали больше десяти лет, потому что она писала «о теневых сторонах жизни». А знаменитая ныне Людмила Улицкая была уволена из НИИ общей генетики за перепечатку самиздата в семидесятом году, всю жизнь проработала вне госслужбы — переводила, писала очерки, делала инсценировки. Волна славы подняла ее в 53 года, когда повесть «Сонечка» в 1994 году была переведена во Франции и признана лучшей иностранной книгой года, получив престижную французскую премию Медичи.
Автор «Я спросил электрика Петрова, ты зачем надел на шею провод» (да, да, у этого шедевра есть автор!) дивный поэт и художник Олег Григорьев сидел за тунеядство и был всячески гоним. Зато всего через десять лет после смерти в 2002 году удостоился мемориальной доски. Там сказано, что в этом доме он жил. А надо было на ней написать одно из его самых дивных стихотворений:
Посиди в чулане —
И как можно длительно:
Серый город станет
Просто ослепительный.
Союзы писателей, съедаемые микроорганизмами
— Вы — писатели? — в свою очередь спросила гражданка.
— Безусловно, — с достоинством ответил Коровьев.
— Ваши удостоверения? — повторила гражданка.
— Прелесть моя… — начал нежно Коровьев.
— Я не прелесть, — перебила его гражданка.
— О, как это жалко, — разочарованно сказал Коровьев и продолжал: — Ну, что ж, если вам не угодно быть прелестью, что было бы весьма приятно, можете не быть ею. Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский — писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было! Как ты думаешь? — обратился Коровьев к Бегемоту.
— Пари держу, что не было, — ответил тот, ставя примус нa стол рядом с книгой и вытирая пот рукою на закопченном лбу.
— Вы — не Достоевский, — сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым.
— Ну, почем знать, почем знать, — ответил тот.
— Достоевский умер, — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.
— Протестую! — горячо воскликнул Бегемот. — Достоевский бессмертен!
— Ваши удостоверения, граждане, — сказала гражданка.
— Помилуйте, это, в конце концов, смешно, — не сдавался Коровьев, — вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет! Почем вы знаете, какие замыслы роятся в моей голове? Или в этой голове? — и он указал на голову Бегемота, с которой тот тотчас снял кепку как бы для того, чтобы гражданка могла получше осмотреть ее.
Михаил Булгаков, из романа «Мастер и Маргарита»
Есть, конечно всегда есть путь в писательскую карьеру через Союзы писателей и влиятельных персон этого мира, но затруднение состоит в том, что в среднем со времен Булгакова они практически не изменились. Лучшие люди этих союзов представляют ценность сами по себе, как упомянутый в этой книге первый секретарь Союза писателей Москвы, критик Евгений Юрьевич Сидоров. Насчет тех, которые сами по себе художественной ценности уже или вовсе не представляют, вы вскоре после знакомства с ними будете цитировать Мастера из известного романа, когда при описании ужасной смерти Берлиоза он сказал со злобой: «Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича!»
Не надо думать, что Мастер просто потрясен неудачей с публикацией романа, и потому несправедлив и одинок в своих чувствах. Как говорил великий французский ученый и философ Блез Паскаль в произведении «Мысли», пристрастие к собственному «я» заслуживает ненависти. Так что это не эмоционирование, а осознанная оценка того, что происходит с человеком, когда он отказывается от богатейшего биосфероцентрического мышления в пользу собственного микроскопического эго. Детали того, что с человеком в этом случае происходит, я описала в 2012 году в книге «Секреты Царевны-Лягушки».
Век назад великих русских писателей вопросы союзов, объединений и званий тоже тревожили. У Викентия Вересаева есть дивная новелла на эту тему, и она так хорошо отражает суть проблемы, что я приведу ее здесь полностью — тем более, что в момент выхода этой книжки новелле сей исполнится ровно сто лет:
«Было это, мне кажется, в конце 1912 или в начале 1913 года. Заседали мы как-то вечером в правлении «Книгоиздательства писателей». Иван Бунин скучающе просматривал вечернюю газету. Вдруг он с сожалением воскликнул: «Умер Мамин-Сибиряк!.. А мы как раз собирались избрать его в почетные академики. Эх, жалко, не поспели! Тяжелая его жизнь была в последние годы. Утешили бы старика».
По окончании заседания вышел я из правления с братьями Буниными. Иван Алексеевич вдруг берет меня под руку и спрашивает: «Как вы, Викентий Викентьевич, относитесь к институту почетных академиков?» — «Нахожу, что это черт знает, что такое. Из писательской массы выделяют двенадцать человек, — почему именно двенадцать? — и награждают их словом «почетный академик». И все считают это какой-то важной наградой и смотрят на них среди других писателей, как на генералов. Не люблю генералов ни в какой области».
Бунин помолчал, потом сказал тихо и искушающее: «А если мы вас выберем почетным академиком?» — «Буду очень рад, — чтобы иметь возможность публично отказаться от этого звания и указать на всю его комичность». «Жаль…»
На следующий день звонит мне по телефону Юлий Алексеевич Бунин: «Викентий Викентьевич, брат меня просил переговорить с вами. На его юбилее, как вы знаете, присутствовало несколько почетных академиков. Между прочим, они обсуждали кандидатуры на три имеющиеся вакансии и постановили выбрать вас, как писателя-общественника, Мережковского, как представителя модернизма, и кн. Сумбатова-Южина, как драматурга. Выбор обеспечен, даже если бы остальные академики на это не пошли. Из имеющихся девяти присутствовало на совещании пятеро: брат, Боборыкин, А.Н. Веселовский, Овсяннико-Куликовский и (кажется, пятым он назвал Златовратского, если он в то время уже не умер). Но вы понимаете, — конечно, если вы собираетесь отказаться, то они предпочтут вас не выбирать».
И он стал мне пространно доказывать, что это учреждение — весьма разумное, что вполне законно желание отметить заслуги достойного писателя и т. п. Тянуло меня совершить предательство, — согласиться, а потом, после выборов, с треском отказаться. Конечно, было бы небесполезно высмеять это учреждение. Но я ответил: «Если они считают меня достойным, то должны бы выбрать независимо от того, откажусь я или нет. Пусть они действуют так, как им повелит их совесть, а я буду поступать, как мне подскажет моя».
Выборы были отложены на неопределенное время».
Позднее, в советское время более суровых литературных объединений и процессов, будущий признанный классик советской литературы Юрий Коваль выбрал стезю детского писателя, когда познакомился с писательской средой и получил отказ из «Нового мира». И тогда признался себе: «Я всегда выпадал из какой-то общей струи… И в этот момент я понял, что не попаду никогда… и во взрослую литературу я просто не пойду. Там плохо. Там хамски. Там дерутся за место. Там врут. Там убивают. Там не уступят ни за что, не желают нового имени. Им не нужна новая хорошая литература. Не нужна. Понимаешь. Там давят». И потом всю жизнь писал в стол взрослую повесть о фантастическом плавании фрегата под командованием капитана Суера-Выера к Острову Истины.