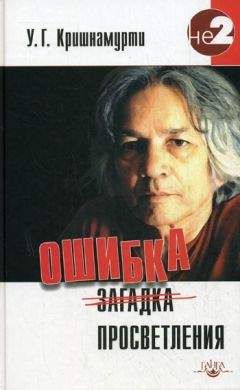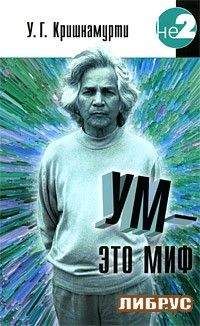Так вот, может быть, это единственная надежда, которая есть у человека, – тогда индивид впервые становится человеком, а иначе он животное. И он остался животным благодаря наследию, потому что наследие сделало возможным остаться неприспособленному с точки зрения Природы; иначе Природа давно бы отторгла их. Для неприспособленных появилась возможность выжить – не выживание самых приспособленных (смеется), но неприспособленных – и в ответе за это религия. Такой у меня довод. Можешь не соглашаться. Ты не согласишься.
В: Означает ли это, что этот идеальный человек…
У. Г.: Он не совершенный человек, не идеальный человек – он не может быть моделью для других.
В: Как вы его называете?
У. Г.: Он – индивидуальность. Он становится человеком, освободившимся от всех животных черт в нем. Понимаешь, животные следуют, животные создают вожаков, и животные черты все еще существуют в человеке – поэтому он создает лидера, вожака, и следует за ним.
В: Он нечто вроде супермена?
У. Г.: Он как цветок. Это как цветок. А каждый цветок уникален.
В: Его состояние – это естественное состояние, которое вы очень часто упоминаете?
У. Г.: Ты становишься самим собой. Видишь ли, шок оттого, что твоя зависимость от наследия человечества была ошибочной, – осознание, озаряющее тебя, как удар молнии, что твоя зависимость от этой культуры, будь то восточной или западной, в ответе за это состояние в тебе. Это относится и к целому, потому что страна – это расширение индивида, а мир – это расширение различных стран. В общем, ты освобождаешься от бремени прошлого и становишься, впервые, индивидуальностью.
Между этими двумя цветами нет никакой связи, так что нет смысла сравнивать и противопоставлять эти уникальные цветы, что Природа выдает время от времени. Они посвоему оказали некое влияние, хотя все вылилось в какието мелкие колонии, воюющие между собой, вот и все. Это продолжается и продолжается. Кого звали спасать этот мир?
В: Разве нельзя сказать, что это колония цветов?
У. Г.: Но у каждого цветка свой собственный аромат. Если бы не наследие человека, которым мы так гордимся, у нас было бы множество таких цветов. Оно уничтожило то, что Природа… (не то чтобы я интерпретировал или понимал пути Природы, цель эволюции или чтото такое; может быть, и нет никакой эволюции.) Если бы не культура, Природа бы породила намного больше цветов – так что это стало камнем преткновения, который мешает человеку освободиться своим собственным образом. И в ответе за эту трудность культура.
Ну, этот цветок – какую ценность он представляет собой для человечества? В чем его ценность? На него можно смотреть, восхищаться им, написать стихотворение, нарисовать его, или можно его сломать и выкинуть, или скормить корове – и все равно он есть. Он совершенно бесполезен для общества, но он есть.
Если бы не культура, мир бы произвел гораздо больше цветов, разных видов и разновидностей цветов, не только одну розу, которой вы так гордитесь. Вы все хотите превратить в одну модель. Зачем? Тогда как природа бы выдавала время от времени разные цветы, каждый из которых уникален посвоему, прекрасен посвоему. Эту возможность уничтожила эта культура, которая держит человека мертвой хваткой, не давая ему освободиться от бремени всего прошлого.
В: Это естественное состояние – то же самое, что настоящий человек?
У. Г.: Да, он перестает быть кемто еще; он то, что он есть, а?
В: Сэр, вы достигли этого на сорок девятом году жизни?
У. Г.: Этот шок, эта молния, ударившая меня с огромной силой, разрушила все, взорвала каждую клетку и железу в моем теле – повидимому, изменилась вся его химия. Этому нет медицинского свидетельства или врача, который подтвердил бы это, но меня не интересует удовлетворение чьегото любопытства, я ведь это не продаю, я не коллекционирую последователей и не учу их, как вызвать эти изменения. Это нечто такое, что нельзя вызвать силой воли или усилиями с твоей стороны; это просто происходит. Я говорю, что оно беспричинно. В чем его цель, я на самом деле не знаю, но это нечто, понимаешь.
В: Произошла трансформация?
У. Г.: Меняется вся химия тела, так что оно начинает функционировать своим естественным образом. Это значит, что все отравленное (я намеренно употребляю это слово) и загрязненное культурой выбрасывается из системы. Оно удаляется из системы, и тогда это сознание, или жизнь (или назови это как угодно), выражает себя и функционирует очень естественным образом. Все это должно быть извергнуто из твоей системы; иначе, если ты не веришь в Бога, ты становишься атеистом и проповедуешь атеизм, учишь ему и обращаешь в него. Но эта индивидуальность не является ни теистом, ни атеистом, ни агностиком; она то, что она есть.
Движение, созданное человеческим наследием, которое пытается сделать из тебя чтото отличное от того, кто ты есть, прекращается, и то, чем ты являешься, начинает проявляться, посвоему, беспрепятственное, свободное, неотягощенное прошлым человека, человечества в целом. И такой человек становится бесполезным для общества; напротив, он становится угрозой.
В: А вопроса о том, чтобы быть полезным, не возникает?
У. Г.: Совсем нет. Он не считает себя избранным, избранным некой силой, чтобы реформировать мир. Он не думает, что он спаситель, или свободный человек, или просветленный.
В: Да, как только он говорит, что он спаситель человечества, он основывает традицию.
У. Г.: Так что, когда последователи вписывают его в рамки традиции, возникает необходимость комуто еще отколоться от этой традиции – вот и все.
В: Когда Вивекананда спросил Рамакришну, видел ли он, тот ответил: «Да, видел». Что он имел в виду?
У. Г.: Тебе нужно спросить у него. Я не могу ответить. Я не знаю, что он имел в виду. Но я тебе объяснил…
В: Может быть, каждое понятие играет роль в определенных рамках. Теперь, когда он вне этого и все те вещи неуместны, он и не подумает отвечать.
У. Г.: Мне плевать, что сказал Рамакришна, что сказал Шанкара или что сказал Будда.
В: Вы выкинули все это?
У. Г.: Это слово не подходит. Все это вышло из моей системы; не то чтобы я выкинул это или чтото такое. Оно просто вышло из моей системы. Поэтому все, что я говорю, зависит только от себя самого и не нуждается в поддержке каких бы то ни было авторитетов. Вот почему такой человек представляет собой угрозу для общества. Он является угрозой для традиции, потому что подрывает саму основу наследия.
В: Вы говорите о семи холмах, семи днях…
У. Г.: Эти семерки, как и то, что происходило со мной в течение этих семи дней, не имеет никакой значимости. Все это оккультная ерунда. В оккультизме нет совершенно ничего стоящего. Все это вообще не важно.
Как я часто говорю своим друзьям, я приезжаю в Индию не для того, чтобы освобождать людей, чтобы читать лекции; я приезжаю сюда по личной причине – чтобы избежать суровой европейской зимы – к тому же, здесь дешевле. Мои разговоры с людьми случайны – я действительно имею это в виду – иначе я бы забрался на трибуну. Какой толк забираться на трибуну? Мне это неинтересно. У меня нет никакого послания.
В: Каждый может достичь этого естественного состояния, но это не в его руках?
У. Г.: Это не в его руках; ни в чьих руках. Но ты можешь быть уверен на тысячу процентов – это не моя особая привилегия и я не избран специально для этого чемто; это находится в тебе. Вот что я имею в виду, говоря, что нет никакой силы вне человека. Это та же самая сила, та же самая жизнь, которая функционирует в тебе. Культура, о которой ты говоришь, подавляет ее. Нечто пытается выразить себя, а культура подавляет его. Когда это нечто отбрасывает культуру, тогда оно выражает себя своим собственным образом.
В: Есть ли у тех, кто прошел через эту трансформацию, какието общие характеристики?
У. Г.: Такой вопрос тут не возникает. Если бы я сравнивал себя со святым, в этом была бы моя трагедия. Мы не принадлежим ни к какому общему ордену, братству или чемуто подобному. Что общего у розы, нарцисса или полевого цветка? Каждый уникален и прекрасен посвоему. У каждого своя собственная красота. Нравится вам это или нет – это уже другой вопрос.