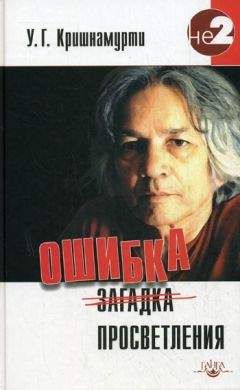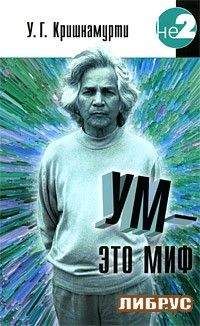(В течение недели, последующей «взрыву», У. Г. наблюдал существенные изменения в работе его органов чувств. На последний день его тело перенесло «процесс физической смерти», и эти изменения приобрели характер постоянных качеств.)
Потом начались изменения – со следующего дня, и продолжались в течение семи дней – каждый день одно изменение. Сначала я обнаружил мягкость кожи, прекратилось моргание глаз, потом изменения во вкусе, запахе и слухе – я заметил эти пять изменений. Возможно, они присутствовали и раньше, и я лишь впервые заметил их тогда.
(В первый день) я заметил, что моя кожа стала нежной, как шелк, и както поособому светилась, золотистым светом. Я брился, и каждый раз, когда я пытался провести бритвой, она проскальзывала. Я сменил лезвия, но это не помогло. Я потрогал свое лицо. Чувство осязания было другим, а также то, как я держал лезвие. Особенно моя кожа – моя кожа была нежной как шелк и светилась таким золотистым сиянием. Я не стал относить это на счет чего бы то ни было; я просто наблюдал это.
(На второй день) я впервые почувствовал, что мой ум находится в «расцепленном состоянии», как я это называю. Я был в кухне наверху, Валентина приготовила томатный суп. Я посмотрел на него и не понял, что это такое. Она сказала мне, что это томатный суп, я попробовал его и осознал: «Вот какой вкус у томатного супа». Потом я проглотил суп и тогда вернулся к этому странному состоянию ума – хотя «состояние ума» здесь не подходит; это было состояние «не ума» – в котором я снова забыл. Я снова спросил: «Что это?» И она снова сказала, что это томатный суп. Я снова попробовал его. Снова я проглотил его и забыл. Я сколькото поиграл с этим. Тогда это было так странно для меня, это «расцепленное состояние»; теперь оно стало нормой. Я больше не провожу время в грезах, беспокойстве, концептуализации и прочих видах мышления, как это делает большинство людей, когда они находятся наедине с собой. Мой ум теперь задействован только тогда, когда он нужен, например, когда вы задаете вопросы или когда мне надо починить магнитофон, или чтото типа того. Все остальное время мой ум находится в «расцепленном состоянии». Конечно, теперь память вернулась ко мне – сначала я потерял ее, но теперь она вернулась, – но моя память находится на заднем плане и вступает в действие только при необходимости, автоматически. Когда она не нужна, здесь нет ума, нет мысли, есть только жизнь.
(На третий день) друзья пригласили себя ко мне на обед, и я сказал: «Ладно, я чтонибудь приготовлю». Но я почемуто не мог как следует ощущать запах и вкус. Я малопомалу осознал, что эти два чувства трансформировались. Каждый раз, как какойнибудь запах проникал мне в ноздри, он раздражал мой обонятельный центр практически одинаковым образом – исходил ли он от самых дорогих духов или от коровьего навоза – раздражение было одно и то же. И потом, каждый раз, пробуя чтото на вкус, я ощущал только основной ингредиент – вкус остальных ингредиентов медленно приходил следом. С того момента духи потеряли для меня всякий смысл и пряная пища перестала нравиться. Я мог ощущать только преобладающие специи – чили или чтото такое.
(На четвертый день) чтото произошло с глазами. Мы сидели в ресторане «Риалто», и я ощутил потрясающее чувство зрительной перспективы, как в вогнутом зеркале. Вещи, которые двигались по направлению ко мне, как будто входили в меня, а вещи, отдалявшиеся от меня, казалось, появлялись изнутри меня. Для меня это было такой загадкой – мои глаза как гигантская камера, которая меняет фокус без моего вмешательства. Теперьто я привык к этой загадке. Я теперь так и вижу. Когда ты меня возишь в своей «мини», я как кинооператор, перемещающий свою тележку, и машины, едущие по встречной полосе, движутся внутрь меня, а те, что нас обгоняют, выезжают из меня, а когда мои глаза на чемто фиксируются, они фиксируются с абсолютным вниманием, как камера. И еще о моих глазах: когда мы вернулись из ресторана, я пришел домой и посмотрел в зеркало, чтобы разглядеть, что такое с моими глазами, как они «зафиксированы». Я долго смотрел в зеркало и обнаружил, что у меня не моргают веки. Полчаса или три четверти часа я смотрел в зеркало – и так и не моргнул. Инстинктивное моргание прекратилось – и так обстоит дело и до сих пор.
(На пятый день) я заметил изменения слуха. Когда я слышал лай собаки, он зарождался внутри меня. То же самое было с мычанием коровы, гудком поезда – внезапно все звуки стали возникать как будто внутри меня – они появлялись изнутри, а не снаружи – и так до сих пор.
Пять чувств изменились за пять дней, а (на шестой день) я лежал на диване – Валентина была в кухне – и вдруг мое тело исчезло. Тела не было. Я посмотрел на свою руку. (Это сумасшедшая штука – вы бы меня отправили в психушку.) Я смотрел на нее: «Это моя рука?» Там не было вопроса, но вся ситуация была такова – это все, что я описываю. И вот я потрогал тело – ничего – я не ощутил, что было чтото кроме прикосновения, понимаешь, кроме точки контакта. Тогда я позвал Валентину: «Ты видишь мое тело на диване? Ничто внутри меня не говорит, что это мое тело». Она прикоснулась к нему: «Это твое тело». И всетаки ее уверение не принесло мне удовлетворения или успокоения: «Что за фигня? Мое тело отсутствует». Мое тело исчезло, и оно так и не вернулось. Точки контакта – вот все, что осталось этому телу – для меня там больше ничего нет – потому что зрение не зависит от чувства осязания здесь. Так что у меня даже нет никакой возможности создать полный образ моего тела, потому что там, где нет осязания, отсутствуют точки здесь, в сознании.
(На седьмой день) я снова лежал на том же самом диване, расслабляясь и наслаждаясь «расцепленным состоянием». Когда входила Валентина, я распознавал ее как Валентину, когда она выходила из комнаты – все, пусто, никакой Валентины – «Что это? Я даже не могу представить, как выглядит Валентина». Я слушал звуки, исходящие из меня. Я не мог соотнести их. Я обнаружил, что все мои чувства не координировались внутри: координатор отсутствовал.
Я почувствовал, как во мне чтото происходит: жизненная энергия собиралась в фокус из разных частей моего тела. Я сказал себе: «Твоей жизни пришел конец. Ты умираешь». Тогда я позвал Валентину и сказал: «Я умираю, Валентина, и тебе придется чтото сделать с этим телом. Отдай его докторам – может быть, они им воспользуются. Я не верю в сжигание или захоронение и тому подобное. В твоих собственных интересах поскорее избавиться от этого тела – оно будет вонять через день – так почему же не отдать его?» Она сказала: «Ты иностранец. Швейцарское правительство не примет твое тело. Забудь об этом» – и ушла. И вот все это пугающее движение жизненной силы, как будто собирающейся в одну точку. Я лежал на диване. Ее кровать была пустой, и я передвинулся на эту кровать и вытянулся, готовясь. Она проигнорировала меня и ушла. Она сказала: «Сегодня ты говоришь, что изменилось тото, завтра изменилось тото, а послезавтра еще чтото изменилось. Что это такое?» Ее не интересовало все это – никогда ее не трогали все эти религиозные вопросы – она никогда ни о чем таком не слышала. «Ты говоришь, что умираешь. Ты не умираешь. Ты в порядке, крепкий и здоровый». Она ушла. Тогда я вытянулся, а это все продолжалось и продолжалось. Вся жизненная энергия собиралась в фокус – где была эта точка, я не знаю. Потом появилась точка, где все выглядело так, как будто окошко видеокамеры само пытается закрыться. (Это единственное сравнение, которое приходит мне в голову. То, как я это описываю, весьма отличается от того, как все это происходило тогда, потому что там не было никого, кто думал бы в таких понятиях. Все это было частью моего опыта, иначе я не мог бы говорить об этом.) Итак, окошко пыталось закрыться, но было чтото, пытавшееся удержать его открытым. Затем, спустя какоето время, не осталось воли чтото делать, даже препятствовать закрытию окошка. И вдруг оно закрылось. Я не знаю, что произошло после этого.
Этот процесс длился сорок девять минут – процесс умирания. Это было как физическая смерть. Даже теперь это случается со мною: руки и ноги холодеют, тело немеет, дыхание замедляется, а потом ты задыхаешься. До какогото момента ты здесь, ты делаешь как будто свой последний вдох, а потом все кончается. Что происходит после этого, неизвестно.
Когда я очнулся от этого, ктото сказал, что мне звонят. Я вышел и спустился вниз, чтобы ответить на звонок. Я был в оцепенении. Я не знал, что произошло. Это была физическая смерть. Я не знаю, что вернуло меня к жизни. Я не знаю, как долго это продолжалось. Я ничего не могу сказать об этом, потому что с пережившим это было покончено: не было никого, кто мог пережить эту смерть… Это был конец. Я поднялся.
Я не ощущал себя новорожденным ребенком – ни о каком просветлении не могло быть и речи, – но вещи, которые поразили меня на той неделе, изменения во вкусе, зрении и так далее, закрепились как постоянные качества. Я называю все эти события «катастрофой». Я называю это «катастрофой», потому что, с точки зрения того, кто считает это чемто волшебным, блаженным, полным благости, любви и экстаза, это физическая пытка – с такой точки зрения это катастрофа. Катастрофа не для меня, но для тех, кто представляет, будто должно случиться нечто чудесное. Это чтото типа того, как если бы ты представлял себе НьюЙорк, мечтал о нем, хотел очутиться там. Когда ты на самом деле уже там, ты не обнаруживаешь ничего подобного; это место, забытое Богом и, возможно, забытое даже чертями. Это совсем не то место, о котором ты мечтал и к которому стремился, а нечто совершенно другое. Что там, ты на самом деле не знаешь – у тебя нет никакого способа знать чтото об этом – здесь нет образа. В этом смысле я никогда не могу сказать себе или комуто: «Я – просветленный, освобожденный, свободный человек; я освобожу человечество». От чего свободный? Как я могу освободить когото? Не может быть и речи об освобождении когото. Для этого у меня должен быть образ себя как свободного человека, понимаешь?