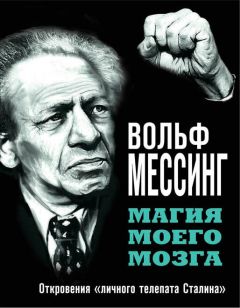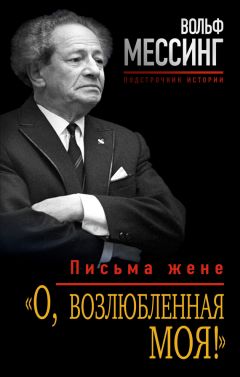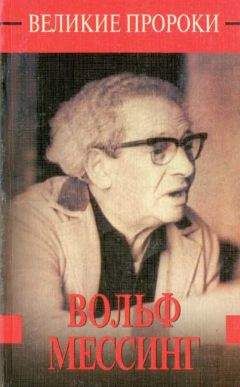– Кто?! – выдохнул капитан.
– Надо бы нам собраться у барона Вельго…
– А он пустит нас?
– А мы его убедительно попросим!
И вот я с капитаном, прихватив Леона, Кати и Жослена, явились к барону.
На мой настойчивый стук Вельго долго не открывал, но вот дверь отворилась, и в коридор выглянул мужчина лет шестидесяти, с клочкастой бородкой, с мешками под глазами. Лицо у него было угрюмым, неся на себе явные признаки попойки.
Болезненно поморщившись, барон процедил:
– С кем имею честь?
Я напряг волю, посылом приводя Вельго в нужное мне состояние. Это было непросто – барон был из тех людей, что плохо поддаются внушению. Однако, ослабленный выпивкой, бессонной ночью и переживаниями, Вельго поддался.
– Проходите…
Пошатываясь, шаркая остроносыми тапками-кавушами, кутаясь в мятый халат, барон прошествовал в каюту и рухнул в мякоть кресла, тут же наливая себе коньяка в стакан.
Не морщась, выпил, выдохнул и утер тыльной стороной ладони вялый рот.
Приглашенные мной зашли и расселись, занимая диван и стулья. Бледная Кати испуганно жалась в уголку, а Жослен, мятый и мрачный, нахохлился, сверля взглядом барона. Леон не скрывал своего живейшего интереса, а капитан все прямил спину.
– Господин Вельго, – начал я официальным голосом, – вы обвиняетесь в убийстве графини Стадницкой!
Барон не вздрогнул даже, кивнул только и снова потянулся за бутылкой.
– Ох! – вырвалось у горничной.
– Ах, ты… – начал Жослен, привставая, и снова упал на жалобно скрипнувший стул.
– Но… как? – удивился Мелькерсен.
– Да, да! – живо поддержал его Кобак. – Как?
– Очень просто, – сказал я. – Проживая за стенкой, господин барон хорошо слышал, кто приходил к графине и когда. А услыхав однажды от самой госпожи Стадницкой, что она принимает снотворное зелье, настоянное чуть ли не колдунами из племени бороро, господин Вельго понял, как именно совершить убийство…
Барон помотал головой.
– Вот тут вы ошиблись, господин детектив, – глумливо усмехнулся он. – О настойке я знал давно.
– Ну, я тоже не всеведущ. Узнав все, что было нужно, вы похитили ключ у господина Вальдеса и в тот же вечер совершили задуманное: дождавшись, пока горничная принесет чай и покинет каюту, вы проникли туда сами и опорожнили пузырек со снотворным едва ли не наполовину. Вышли, закрыли дверь, вернулись к себе и стали ждать.
– Да, – выговорил Вельго, изрядно отхлебнув, – я даже чересчур долго дожидался. Вошел, значит, закрыл дверь за собой и тут слышу, как в дверь стучит этот альфонс – больше-то некому. Я еле успел снять кулон и уйти, как он опять прибежал.
– Так, значит, вы признаетесь в содеянном? – грозно спросил капитан.
Вельго пожал плечами:
– Признаюсь… Да, я убийца.
– И вор! – веско добавил Жослен.
– О нет! – пьяно захихикал барон. – Графиня, должно быть, рассказывала о том, что рубин ей подарил мужчина, безумно в нее влюбленный? Так вот, мужчиной этим был я! Только ничего я Ирине не дарил, она сама, сбегая из Петрограда, «прихватила» кулон и прочие цацки. И я вовсе не случайно оказался в соседней каюте – сам нарочно все устроил. Мне нужно было наказать эту вертихвостку, сдавшую меня ЧК! Что, вздыхала небось, повествуя о моем расстреле? Ошиблась Ирка! Бежал я из чекистских подвалов. Ужель кавалергарду не справиться с «ревматом»? Не в курсе, кто такие ревматы? Это р-революционные матросы. Революционные м-мужеложцы…
Я покачал головой.
– Не знаю, что у вас и между вами было в прошлом, – сказал я серьезно. – И не буду касаться «Яхонта», это пустяки. Главное в том, что вы убили женщину, пускай даже и не лучших нравственных правил.
– Это да… – вздохнул барон и печально покачал головой. – Я хотел этого, и вот, исполнил желание. А радости нет… Преступление и наказание! Да-с…
Допив коньяк, он встряхнулся. С трудом поднявшись, Вельго добрался до комода, цепляясь за стулья, за стол. Покачиваясь, он держался одной рукой за выдвинутый ящик, а другой рылся в несессере. На солнце блеснула стеклянная ампула.
Не раздумывая, не выгадывая лишних минут, барон сунул ампулу в рот.
Я понимал, в чем дело, но продолжал сидеть. Жослен метнулся было, но даже не оторвал седалища от сиденья.
– Прощайте, господа, – невнятно сказал Вельго и раскусил ампулу.
Хрустнуло стекло, и барон мягко повалился на ковер, раскидывая руки. Я уловил слабый запашок миндаля.
– Цианистый калий… – пробормотал Леон.
Горничная охнула, а Жослен будто оплыл на стуле, сгорбился.
– Voila, – заключил капитан.
7 сентября, Рио-де-Жанейро
Спасибо Леону, он все устроил, и у меня никаких проблем с бразильской полицией не возникло. Напротив, мою версию дружно признали, и стала она официальной. Аминь.
В Рио-де-Жанейро стояла зима – плюс 25.
Я был в полном восторге: зеленые пальмы, голубое море! Золотистые пляжи Копакобаны!
Богатые дома с зеркальными окнами, обилие негров и мулатов, сверкавших белозубыми улыбками, а на склонах – россыпи лачуг, будто и в самом деле просыпан мусор.
Там царят нищета и разврат, а любой чужак рискует лишиться не только бумажника и одежды, но и самой жизни.
Ну, пока я, подвернув штанины, бродил по пляжу, Леон развернул бурную деятельность. Уже на следующий день состоялись мои первые выступления, а неделю спустя мы с Кобаком вылетели в Манаус, столицу Амазонии.
Причем полет шестиместного «Юнкерса» был оплачен тамошними воротилами.
Амазонские плантаторы, озолотившиеся на продаже каучука, выстроили в Манаусе огромный оперный театр, пустили по улицам трамваи – знай наших!
Правда, каучуковая лихорадка сошла на нет, множество людей разорилось, однако, видимо, деньги еще не кончились.
На полпути к Манаусу самолет сделал посадку на крошечном поле посреди сельвы, как здесь называют джунгли. Пока летчики катили бочки с бензином и перекачивали его в баки, из зарослей показались трое настоящих индейцев – голые, в одних повязках, с перьями в волосах, они казались неотторгаемой частью леса.
Двое дикарей были молоды и поддерживали третьего, старого и безразличного ко всему.
Увидев меня, старик встрепенулся и велел своим провожатым подвести себя к бледнолицым. Скользнув взглядом по Леону, он вперился в меня черными и зоркими глазами.
– Я видеть большая сила, – прошамкал он. – Очень-очень большая. Она исходить от тебя, как свет от костра в ночи. Не трать ее на зло, бледнолицый…
– Не буду, – пообещал я.
За конец осени 1925 года и зиму 1926-го записей в дневнике не было[16].
12 февраля 1926 года. Польша, Лодзь
Ах, с каким нетерпением я ждал встречи с Леей! Как возмутительно неторопливо плыл наш пароход – он словно стоял посреди океана, не двигаясь. И так день за днем.
Приближение европейских берегов я ощутил не глазами, а всем своим разнеженным организмом, привыкшим к тропической жаре.
Задули зябкие ветра, а море, еще недавно переливавшееся всеми оттенками изумруда и топаза, вдруг посерело, набралось холодной свинцовой угрюмости.
И все же я рвался навстречу снегам.
Сойдя в Гамбурге на берег, я тут же поспешил на вокзал. И теперь уже паровоз неспешно катил, выматывая душу.
Приехав в Лодзь, я буквальным образом полетел на Пётрковскую. Еще час, и я заключил в объятия мою Лею.
Право, не помню, что я говорил девушке, как изливал свою любовь и радовался избавлению от тоски. Лея смеялась и плакала.
Все было не просто хорошо, все обстояло за-ме-ча-тель-но!
Лея запрыгала, когда я показал ей обручальное кольцо, но решение о замужестве дочери в приличной еврейской семье принимал отец.
И вот я на следующий же день обрядился в свой лучший костюм, еще и одолжил у Леона заколку для галстука с бриллиантом. И отправился к Гойзману-старшему добиваться согласия на брак с Леей.
И вот мы сошлись, жених и отец.
Не знаю уж, почему мне казалось, будто породниться с Гойзманами – мероприятие простое. Я почему-то нисколько не опасался противодействия отца Леи. Конечно же, я ожидал капризов, торга, обсуждения самых важных, по мнению родителей, вопросов – к примеру, где жить молодоженам.
Однако Гойзман грубо разрушил все мои мечты.
– Моя дочь, – сказал он резко, – не может стать женой шута. А еврею из славного благочестием города Гура-Кальвария не подобает заниматься балаганными штучками.
– Позвольте, – возмутился я, – с чего бы я был шутом? Я – артист! И выступаю отнюдь не в балаганах!
Отец Леи небрежно отмахнулся от моих слов.
– Мой ответ: нет, нет и нет!
У меня оставался последний выход – воздействовать на «тестя» своей силой, но этот человек оказался непробиваемым. Встречаются такие люди и на моих выступлениях. Их лица ничего не выражают, в глазах их ничего не отражается. Они, словно Големы, ни о чем не думают. Может, это и преувеличение, но я не могу «взять» их мысль.