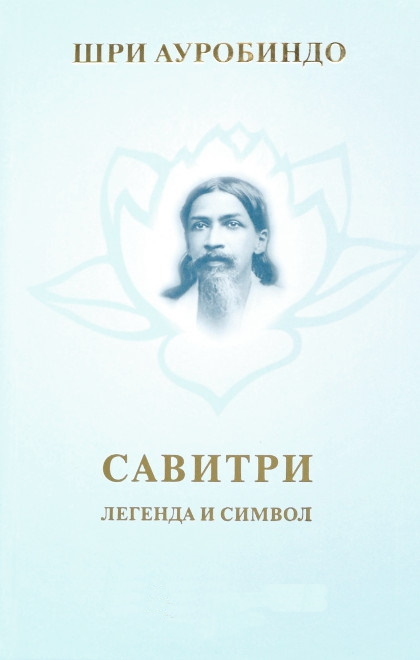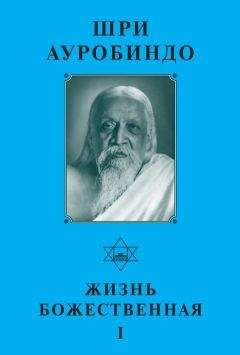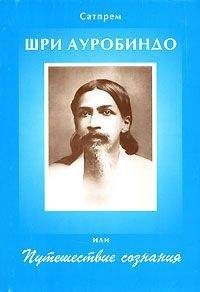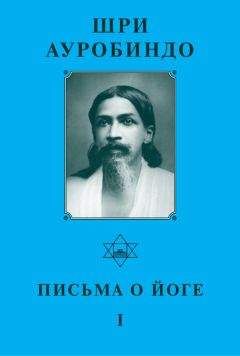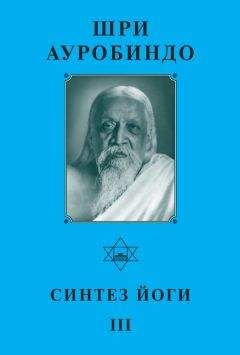борьбе;
Твоя любовь и страсть — здесь не судьи,
Оставь ее судьбу и судьбу мира Бога охране одной.
Даже если покажется, что он оставил ее на ее одинокую силу,
Даже если сквозь все запинки, падения, очевидный конец,
Разбитое сердце только смерть и ночь видятся,
Ее Богом данная сила может против рока сражаться
Даже на грани, где одна Смерть кажется близкой
И человеческая сила не может помешать или помочь.
Не думай ходатайствовать перед спрятанной Волей,
Между духом ее и силой его не вступай,
Оставь ее ее могучей себе и Судьбе".
Он сказал и земную сцену оставил.
Прочь из борьбы и страданий на нашей земле
Он повернул к своему далекому, блаженному дому.
Блестящее, стреле подобное, прямо в небеса указующей,
Эфирного провидца светлое тело
Атаковало славу полдня пурпурную
И исчезло, как звезда уходящая,
Тающая в свете Незримого.
Но был еще слышен крик в бесконечности,
И внимавшей душе на смертной земле
Высокий и далекий несмолкающий голос
Пел гимн вечной любви.
Конец песни второй
Конец книги шестой
Песнь первая
Радость объединения; суровое испытание знанием грядущей Смерти, горем сердца и болью
Судьба следовала своей предсказанной, непреложной дорогой.
Надежды человека и страсти образуют путешествующие колеса,
Что его судьбы несут тело
И ведут его слепую волю к неведомой цели.
Внутри него судьба формирует его поступки и правила;
Ее лицо и ее форма в нем уже рождены,
Ее источник в душе его тайной скрывается;
Здесь кажется, что Материя формирует жизнь тела
И душа следует туда, куда ее природа ведет.
Природа и Судьба определяют выбор его свободы воли.
Но более великий дух может этот баланс изменить
И душу творцом судьбы своей сделать.
Такова есть правда мистическая, нашим неведением спрятанная:
Рок — это для нашей врожденной силы канал,
Наше суровое испытание — это выбор скрытого духа,
Ананке [46] — декрет существа нашего собственный.
Все было исполнено, что сердце Савитри,
Как цветок сладкое, но твердое, страстное, но спокойное,
Избрало, и по непреклонному пути ее силы
Толкало космический длинный изгиб к его завершению.
И снова она сидела позади громких, спешащих копыт;
Скорость эскадронов в доспехах и голос
Далеко слышимых колесниц от дома ее уносил.
Простирающаяся земля, проснувшаяся в своем немом размышлении,
Глядела из обширной лености вверх на нее:
Холмы, развалившиеся в светлом тумане, широкие страны,
Что под летним небом в покое раскинулись,
Край за краем просторным под солнцем,
Города, подобные хризолитам в широком сиянии,
И желтые реки шагающие, львиногривые,
Вели к изумрудной линии границ Шалвы,
К счастливому входу в стальные обширности,
К титаническому уединению и суровым вершинам.
Вновь приближалось прекрасное предопределенное место,
Край, сверкающий наслаждением рощ,
Где она повстречала впервые лик Сатьявана
И он говорил, словно тот, кто просыпается в грезах
Некой безвременной красоты и реальности,
Золотолунная сладость земнорожденного ребенка небес.
Последний спуск — и приблизилось будущее:
Далеко позади лежали холмы огромные Мадры,
Белые резные колонны, неясные альковы прохладные,
Цветная мозаика кристальных полов,
Павильоны с башнями, бассейны в ряби от ветра,
Бормотание стражи в жужжании пчел,
Быстро забытый или бледнеющий в памяти
Плеск фонтана в белокаменной чаше,
Глубокомысленного полдня торжественный размышляющий транс,
Колоннады деревьев серая греза в вечере тихом,
Медленный восход месяца, впереди Ночи плывущего.
Оставлены далеко позади были лица знакомые,
Счастливый шелковый лепет на устах смеха
И близко прижимающих, родных рук объятия,
И свет обожания нежно любящих глаз,
Предлагавших одну суверенность их жизни.
Первобытное одиночество Природы здесь было:
Здесь раздавались голоса лишь птиц и зверей, –
Ссылка аскета в смутно одушевленной огромности
Безлюдного леса, далеко от веселого звука
Веселой болтовни человека и его толпящихся дней.
В просторном вечере с одним красным глазом облака,
Сквозь узкие проход, цветущую зелень расщелины,
Из-под пристального взгляда небес и земли они прибыли
В могучий дом изумрудных сумерек.
Там, ведомые вперед еле видной тропою,
Что вилась под тенью огромных стволов
И под арками, скупо солнечный свет пропускающими,
Они увидели низкий кров жилища отшельника,
Скрытого под клочком лазурного цвета
На залитой солнцем поляне, что казалась вспышкой
Довольной улыбки в чудовищном сердце лесов,
Простое убежище человеческой мысли и воли,
Наблюдаемое толпящимися гигантами леса.
Дойдя до этой грубо срубленной хижины, они отдали
Не рассуждая больше о странности судьбы своей дочери,
Свою гордость и любовь великому, слепому королю.
Царственному столпу могущества павшего,
И величественной, измученной заботами женщине, королеве когда-то,
Которая ничего для себя не желала от жизни,
А все свои надежды связывала со своим ребенком единственным,
Призывая на его голову у пристрастной Судьбы
Все счастье небес, всю радость земли.
Обожая мудрость и красоту, как у юного бога,
Она видела его небом любимым, как ею.
Она радовалась его яркости и в его судьбу верила,
И не знала о зле, подползающем ближе.
Задержавшись несколько дней на краю леса,
Как люди, что оттягивают расставания боль,
Не желая разделить цепляющиеся печальные руки,
Не желая видеть до последней минуты лик,
Отягощенный скорбью грядущего дня,
И удивляясь беззаботности Рока,
Что свои высшие труды праздными руками ломает,
С сердцами, полными боли и тяжести, они с нею расстались,
Как принуждаемые неотвратимой судьбой мы расстаемся
С тем, кого больше никогда не увидим;
Ведомые особенностью ее судьбы,
Бессильные против выбора сердца Савитри,
Они оставили ее ее восторгу и року
На первобытное попечение огромного леса.
Позади все осталось, что было ее жизнью когда-то,
Все приветствовала, что отныне стало его и ее,
Она поселилась в диких лесах с Сатьяваном:
Бесценной она свою радость считала, столь близкую к смерти;
Наедине с любовью жила одной любви ради.
Словно самоуравновешенный над маршем дней
Ее неподвижный дух наблюдал спешку Времени,
Статуя непобедимой силы и страсти,
Абсолютизм сладкой, повелевающей воли,
Спокойствие богов и неистовство,
Неукротимых и неизменных.
Сперва ей под небесами сапфирными
Лесное одиночество казалось великолепною грезой,
Алтарем огня и пышности лета,
Дворцом богов, цветами увешанным, с куполом-небом,
Все его сцены — улыбкой на восторга устах
И все его голоса — бардами счастья.
Песнопение было в налетающем ветре,
Слава — в мельчайшем лучике солнца;
Ночь была хризопразом на бархатной ткани,
Удобно свернувшейся тьмой или глубиной лунного света;
День был карнавалом пурпурным и гимном,
Волной смеха света с утра и до вечера.
Сатьявана отсутствие было грезами памяти,
Его присутствие было империей бога.
Сплав радостей земли и небес,
Трепетный огонь брачного восторга сиял,