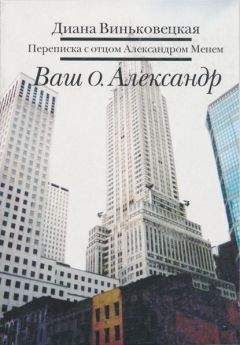После службы в его небольшой церкви я сказала отцу Александру, что во мне что‑то шевельнулось сверхличное, хотя я слишком в стороне, живу вне религии, и мне все думается, что служба в церкви — это театральная игра для взрослых. «И вы думаете, что я артист?»— весело спросил отец Александр. «Нет, я как раз почувствовала силу вашего духовного взора на себе, — сказала я, — многие из моих знакомых просто воображают, завышаются над другими своей религиозностью, и часто я встречаюсь с духовным высокомерием, а не с верою». Я могла позволить себе говорить такие слова в присутствии отца Александра, чувствуя, что он не догматически–сухой педантичный священник, а живой человек, полный веселости и доброжелательности.
Он отнесся ко мне так ласково и нежно, будто давно знал и любил меня. Такую открытость, такую живую любознательность к другому человеку у верующих и неверующих я почти никогда не встречала, а уж у знаменитых и подавно. Отец Александр подарил мне любовь и доброту высокого полета, и я ощутила себя свободней, лучше, умнее.
Я увезла эту любовь в Америку.
Через два года после нашей «поросячьей» встречи, живя в Америке в маленьком университетском городке Блаксбурге, я почувствовала необходимость написать письмо отцу Александру. Отец Александр, несмотря на всю занятость, ответил. Так началась наша переписка.
Первые несколько писем и открыток отца Александра адресованы моему мужу Якову, а последующие — мне. Переписка продолжалась до 1982 года, потом прервалась, наши письма и книги, посланные в Россию, стали возвращаться, пропадать, и нам сообщили, что у отца Александра неприятности с властями. После смерти Якова (1984) я переехала в Бостон, и два последних письма от отца Александра получила незадолго до его смерти. Он написал и передал через моего сына Илюшу, посетившего отца Александра, что собирается писать книгу по истории религий, и попросил меня найти материалы о мормонах. Я собрала их, но они остались неотправленными… Пришло известие из Москвы, что отца Александра убили.
Я превратилась из географа в писателя, как мне советовал отец Александр. Окропил меня, как деревенского поросенка.
Я решила опубликовать нашу переписку, и хотя отдельные истории и эпизоды из моих писем вошли в мою книгу, Америка, Россия и я», но здесь, в контексте с письмами отца Александра, они приобретают иную окраску. Письма были ниточкой — пуповиной, связывающей меня с оставленным миром, и даже самые маленькие весточки отца Александра имели для меня значение молитвы, были целебным бальзамом.
Яков и Диана Виньковецкие. Ленинград. 1974 год
30 августа 1977
Дорогой отец Александр! Здравствуйте!
Я давно хотела Вам написать, даже делала некоторые попытки, как‑то у меня все не получалось, но я с Вами разговаривала. Я рассказывала Вам, что произошло с нами за эти два года, что изменилось в нас, в нашем окружении, что мы приобрели и что мы потеряли.
Вначале был сон, как в глубоком сне я была в Вене, в этом непривычном мире слов, вещей и поступков. Я даже не могу сказать, хороша ли Вена? Я себя там чувствовала плохо, невменяемо, если можно так выразиться. В Италии был отдых, я стала приходить в себя, постепенно влюбляясь в Рим, который поначалу мне не понравился: грязь, на окнах жалюзи зеленого цвета, какие‑то(?!) развалины… Когда же я увидела Рим сверху, то внезапно открыла, что он красив, и начала влюбляться в него, в каждый двор, улицу и в те пожухлые имперские развалины, которые мне сначала ничего не сказали.
Но Италия, как и вся Европа, живет понятным и привычным для нас способом — блат, коррупция… Как нам написал Иоанн Сан–Францисский[1], с которым Яша переписывался еще из России, связывая науку с религией, — «Америку ни с чем не сравнивайте, она ни на одну страну не похожа». Это оказалось правдой.
И вот движущийся асфальт аэропорта Кеннеди вынес нас в новую жизнь, в новый свет, в новый город. Встреча с Нью–Йорком оказалась неожиданной: он страшный урод и паршивый, правда, своеобразный — в нем есть все. При поддержке Толстовского фонда нас поселили в отеле–ночлежке в центре Манхэттана. В первую ночь я взглянула в окно отеля: как Америка‑то выглядит? И, увидев двор глухой, черный, без окон и дверей, заброшенный бумагами и мусором, подумала: не в районе ли, описанном Достоевским, я оказалась? Прямо тут Раскольников старушку‑то и убил?! И это Америка?! Ночью под кроватью шебуршали мыши и бегали тараканы. А наутро, за углом: роскошные магазины, застекленные витрины с показом всего, что производит человечество всего земного шара. Нью–Йорк поразил меня своей кусочностыо (как писали у нас, контрастами), он — как деревенское одеяло, скроенное из самых разных лоскутков: к парчовым пришит изношенный кусок старой портянки, к маркизету пришпандорена дерюжка старого пьяницы. С признаками столицы и захолустья вместе. Тут другие запахи и звуки. Я разинула рот и долго его не закрывала, закружившись в ритме и суматохе нью–йоркских улиц. Как громадный симфонический оркестр, где каждая улица издает свои звуки, как некрасивая, но очаровательная женщина затягивает вас навсегда. Улицы: Брильянтовая — с продажей брильянтов самого неожиданного вида (будучи географом–геологом, только в музее видела нечто подобное: радиально–лучистые, овальные, маркизы, кабошоны, собранные, рассыпанные, они лежат в витринах на черной фольге и сверкают огненными лучами). Цветочная — с магазинами невиданных цветов: черные тюльпаны, хризантемы величиною с подсолнух — лохматые, махровые, белые, красные. Букеты из чайных роз. Порнографическая — на ней все чудеса человеческого оголения. Галерейная — с безлюдными галереями, увешанными всем на свете, и в них заходить страшно, если бы не Яша — не зашла бы.
Улицы разные, как жизнь. Между небоскребами попадаются готические храмы с кружевными шпилями, со сводами, тянущимися в вышину, величественные и независимые.
Я не видела ни одного города с такой чудовищной красотой, с таким обвораживающим размахом, и полюбила это чудовище, и, набросив на него фату смеха, наслаждалась высотой небоскребов, уносящих в космос, длиной бесконечных улиц, уводящих в сладостную даль, свободным дыханием колоссального Люцифера. Днями и изредка ночами бродила с детьми по его пространству, ездила в метро, где люди читают газеты всех стран, всех цветов и оттенков: китайцы, индусы, негры, евреи, арабы… и я как представитель бывших великодержавных славян — осколок изверженной породы. В метро кто ест, кто отдыхает, кто поет, кто говорит о кризисе, кто показывает фокусы, видели мужика, который предупреждал о надвигающемся матриархате, обвесив себя досками, на которых были написаны пункты всех женских притеснений.
Удивлялась, глядя на одежду встречных, которая как наброшенная, не приласканная, не любимая, случайная, новенькая, как не своя. Надень на голову кафтан — никто не заметит, не обсмотрит, не обернется. Одеваются, кто как хочет. Видела одну даму возраста очень взрослого, у нас такие давно уже в гробу лежат, а она шла по шикарной улице Пятой авеню в серебристом норковом манто, в босоножках на громадных красных каблуках, с кружевной прической на голове. «Не статуя ли Свободы вышла прогуляться?» — подумала я, и на душе потеплело оттого, что и у меня еще есть время так прохаживаться. Про Нью–Йорк могу писать до бесконечности его улиц, до скончания открывшегося времени.
Уже в Нью–Йорке я удивилась новому ощущению себя — «приобретению времени», если можно так выразиться, будто время растянулось, потому что тут люди «дольше» чувствуют себя молодыми. Меня не подавил страшный Нью–Йорк, а скорее наоборот, в нем я вдохнула новое ощущение, хоть и без денег, без работы, на графской помощи, а хорошо. Может, потому я и полюбила Нью–Йорк? Ведь мы любим не улицы, а свое ощущение в них. Или в Новом Свете время другое, или я себя в новом свете не узнаю? У меня появился запас времени! Я приобрела время, хотя и многое потеряла — пространство, в котором жила: родину, друзей, окружение. Время, как нас учили, связано с пространством, я никогда этого не понимала и сейчас не понимаю, а просто смеюсь. Открываю многое про себя, издалека думала, что «окна буду мыть», а нет, уже не хочется, все больше хочется воображать — пристроиться куда‑то к науке. Я набаловалась в Ленинграде, работая в университете, вроде как ученый, хотя подспудно всегда знала, что больше подхалим. А вот Яша — взаправдашний ученый. Я восхищаюсь его способностям проникать за сущность вещей. Когда нужно объяснить какое‑нибудь геологическое явление, он мне говорит: «Ты должна стать этим камнем, этой горой, кристаллом, чтобы понять их!» А мне не хочется! Мне совсем не хочется быть камнем или горой, разве что брильянтом, я хочу быть красивой женщиной. Правда, у меня шебуршится много амбиций, но они еще не вошли в сознание.