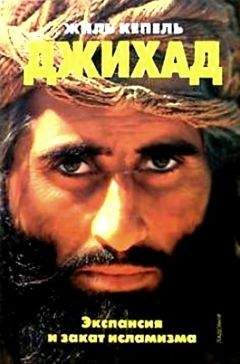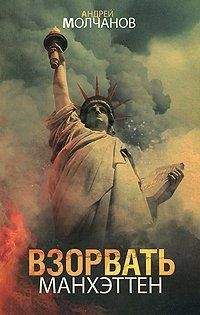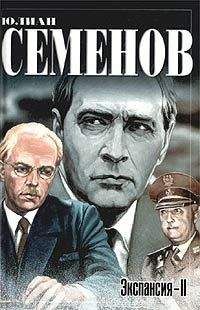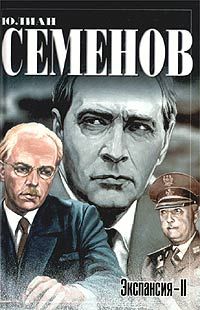Перемены выражались прежде всего во всеобщем распространении в городах среднего, а затем — в меньшей степени — высшего образования. Оно не только открывало пассивный доступ к письменной культуре (умению читать газеты), но и давало возможность использовать ее на практике, позволяя выбирать источники информации, публично выражать свои взгляды, спорить и чувствовать себя в интеллектуальном плане на равной ноге с правившими националистическими элитами. Однако этот качественный скачок в культурной области не сопровождался ожидаемым социальным прогрессом. Фрустрация порождала озлобление против элит, обвинявшихся в узурпации государства, в лишении молодежи, затратившей усилия на приобретение знаний, доступа к власти и богатству.
Таким образом, социальное и политическое недовольство находило выражение именно в культурной сфере, через отрицание националистической идеологии правивших режимов и подмену ее исламистской системой взглядов. Этот процесс зародился в студенческой среде: студенческие городки, в которых до конца 70-х годов верховодили левацкие группировки, стали переходить под контроль исламистских движений. Последние начали распространять идеи Кутба, Маудуди и Хомейни — идеи, которые прежде не находили массовой аудитории: не хватало достаточного количества недовольных, но при этом образованных, владевших современным национальным письменным языком последователей, способных понять и проникнуться этими радикальными теориями.
Исламистская интеллигенция зародилась именно в студенческой среде тех лет. Она не являла собой однородную социальную группу с четкими целями. Начав с культурного разрыва с национализмом, она превратила исламизм в борьбу за политическую гегемонию. Это позволило движению вербовать сторонников в самых разных слоях с различными классовыми интересами. Помимо ядра студенческих идеологов, две социальные группы оказались особенно восприимчивы к исламистской мобилизации: бедная городская молодежь — масса изгоев, порожденная демографическим взрывом и исходом сельского населения в города (неимущий алжирский «хиттист»[69] — ярчайший представитель этой категории), — и набожная буржуазия, то есть средние классы, лишенные доступа в сферу политики и экономически ущемленные военными и монархическими режимами. Как будет показано ниже, эти две группы, хором требуя введения шариата и создания исламского государства, имели о них весьма несхожее представление. Первые воспринимали их как социальную революцию, вторые же усматривали в них прежде всего возможность занять место правящих элит, не меняя при этом социальной иерархии. Эта двойственность лежит в основе современного исламистского движения. Суть идеологии, проповедовавшейся интеллигенцией, состояла в том, чтобы сгладить антагонизм между интересами двух основных социальных составляющих и направить их в единое социальное и политическое русло для достижения общей цели — завоевания власти.
Но скрывавшиеся за внешней цельностью исламистского дискурса противоречивые цели бедной городской молодежи и набожной буржуазии объясняли, почему в движении могли участвовать силы и группы интересов как правого, так и левого толка, будь то в рамках отдельной страны или в мировом масштабе. Массированная поддержка со стороны Саудовской Аравии — этой «реакционной» монархии — и поощрение исламистской экспансии со стороны американцев вовсе не намеревались привести к власти бедную городскую молодежь, для которой введение шариата ассоциировалось с социальной революцией. Поддерживая религиозную буржуазию, Эр-Рияд, как и Вашингтон, полагал, что она сумеет более эффективно нейтрализовать эти опасные классы с помощью религиозной лексики и символики, чем это смогли бы сделать националистические элиты, утратившие легитимность и взявшие на вооружение принуждение и репрессии.[70] Наоборот, поддержка, оказанная Иранской коммунистической партией (Туде) и бывшим Советским Союзом революции в Иране, переход многих бывших марксистов во всем мусульманском мире на исламистские позиции, наконец, содействие французских коммунистических муниципалитетов исламистским молодежным организациям окраин зиждились на уверенности в том, что коль скоро за этим движением пошли «массы», то следовало подчеркивать его «прогрессивный» и народный характер, дабы превратить исламизм в антиимпериалистическое и антикапиталистическое движение,[71] не допуская взятия его под контроль набожной буржуазией и нейтрализации его революционного потенциала.
Отмеченная социальная двойственность вообще присуща исламистским движениям — она даже составляет саму их суть — и объясняет их сосредоточение на моральных и культурных аспектах религии. Эти движения обретут широкую социальную базу и даже придут к власти, как в Иране, когда станут способны объединить бедную городскую молодежь и набожную буржуазию на основе идеологии, замешанной на религиозной морали и весьма схематичной социальной программе. Каждая составляющая исламистского движения может понять и интерпретировать программу по-своему благодаря полисемии, характерной для религиозной лексики.
Напротив, когда бедная городская молодежь и набожная буржуазия оказываются в разных лагерях, движение терпит поражение в борьбе за власть; идеологическая основа утрачивает свой объединительный характер: возникают многочисленные конкурирующие исламистские дискурсы, взаимно исключающие друг друга. Один из них, именуемый «радикальным», выражает специфические требования неимущей городской молодежи, другой, «умеренный», отражает взгляды религиозной буржуазии. В этой ситуации — алжирская гражданская война 1992–1998 годов представляет здесь крайний случай столкновений между «радикальной» ВИГ (Вооруженной исламской группой) и «умеренной» ИАС (Исламской армией спасения)[72] — интеллигенция оказывается слишком слабой, чтобы выработать мобилизационную идеологию, способную сплотить обе составляющие движения. Подобная ситуация, как правило, позволяла правящим элитам надолго раскалывать его ряды, пользуясь склонностью части радикалов к терроризму, что пугало набожную буржуазию: в случае неэффективности репрессивного аппарата государства она могла первой пасть жертвой социальной ярости беднейшей городской молодежи. В том же Алжире шантаж исламистских нотаблей со стороны радикальных групп в 1994–1995 годах был в этом плане весьма показателен. В Египте тот факт, что террор против туристов отрицательно сказался на доходах местных средних классов и простого люда, жившего за счет туристической индустрии, помог государству дискредитировать движение в целом — особенно после бойни в Луксоре осенью 1997 года.[73] Многие мусульманские государства сумели воспользоваться этими расколами, чтобы перетянуть на сторону власти часть исламистской интеллигенции и религиозной буржуазии, идя на внешнюю исламизацию повседневной жизни, но сохраняя нетронутой социальную иерархию, как это было в Пакистане и Малайзии с конца 70-х годов.
Появление исламистской интеллигенции — первое условие существования движения. Она заявила о себе с начала 70-х годов в студенческих городках Египта, Малайзии и Пакистана, затем распространилась по всему мусульманскому миру, пользуясь связями и финансовым могуществом, которыми располагало ваххабитское течение после октябрьской войны 1973 года. В каждом из этих случаев она приходила на место национализму, подменяя его другими идеалами.
И арабский национализм, и исламизм стремились объединить разнородные социальные классы, первый — растворив их в великом «арабском единстве», второй — сплотив их в рамках виртуальной «общины правоверных». Однако национализм со временем раскололся на два антагонистических лагеря: «прогрессивный» (насеровский Египет, баасистские Сирия и Ирак) и «консервативный» (аравийские монархии и Иордания). Эта «арабская холодная война» превратила противостояние Израилю в единственный фактор объединения, но и по нему был нанесен жестокий удар поражением в шестидневной июньской войне 1967 года. Однако именно прогрессисты и прежде всего Насер — инициаторы войны и жертвы величайшего военного унижения — первыми испытали на себе его тяжелые последствия. Показная отставка президента в день поражения — которую он, впрочем, сам же отменил и использовал как предлог для устранения своих тогдашних соперников — явилась знаковым событием: обещание будущей победы над сионистским государством утратило силу из-за катастрофы 1967 года. Психологическая травма, пережитая арабской интеллигенцией, заставила ее заняться пересмотром многих вопросов, связанных с религией и светскостью. Книга сирийского философа Садека Джаляля аль-Азма «Самокритика после поражения»[74] являет собой один из ярких примеров настроений, бытовавших в ту пору в среде интеллигенции. Впоследствии исламисты и сторонники Саудии представят 1967 год как кару свыше за забвение религии. Проигранную войну 1967 года, на которой египетские солдаты шли в бой с кличем: «Земля! Воздух! Море!» — они противопоставят войне 1973 года, когда крики атакующих «Аллах Акбар!» должны были принести их оружию больший успех.