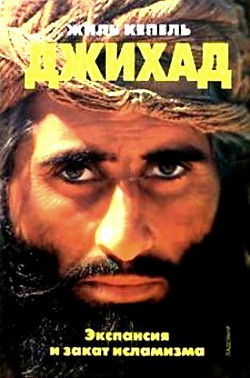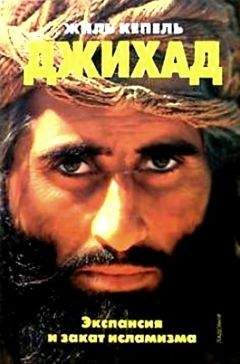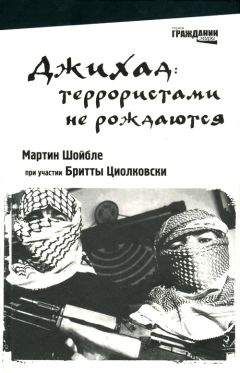Притягательная сила идеологии — как и пределы ее влияния — определяется ее адекватностью социальной практике: успехи и поражения исламизма в XX веке, от эпохи «Братьев-мусульман» до наших дней, подтверждают данную истину вопреки мнению сторонников тех концепций, которые — с оптимизмом или пессимизмом — взирают на это движение как на закономерный итог истории мусульманского мира.
Сайид Кутб: ссоры между наследниками
Успехи «Братьев» объяснялись их способностью сплачивать вокруг своей программы различные социальные группы, вести прозелитическую работу, которая сопровождалась активной благотворительной деятельностью в больницах, мастерских и школах при мечетях, контролировавшихся ассоциацией. На пике своей экспансии «Братья» считали себя «солью соли» египетского народа, вместе с которым они шли к желанному идеалу — исламскому обществу. Колониальное господство проклиналось, но на зависимую от колонизаторов египетскую монархию это не распространялось: долгое время «Братство» поддерживало отношения с окружением короля Фарука, которому аль-Банна был представлен лично.
Насеровские репрессии радикально изменили положение: исламистское движение, выросшее из распущенной организации, стало подвергаться гонениям со стороны государства, к которому относилось резко враждебно, испытывало отчуждение со стороны населения. Отчуждение это было и физическим (кадры движения находились в эмиграции или в тюрьме), и духовным: хотя пропаганда и принуждение со стороны правившего режима играли свою роль, египетский народ голосовал за Насера, а он был палачом «Братьев». Именно в таком историческом контексте Кутб говорил о джахшийи, доисламском варварстве. По Кутбу, она охватывала весь современный ему мир, включая страны, считавшие себя мусульманскими. Ее следовало уничтожить, как это сделал Пророк, сокрушивший первоначальную джахилийю, чтобы на ее руинах заново построить исламское государство. Введение понятия «джахилийя» было отрицанием прежней практики «Братьев», действовавших в гуще общества и не испытывавших глубокой неприязни к монархии. Оно подразумевало, что члены общества более не считались мусульманами. С точки зрения исламской доктрины, речь шла уже об очень серьезном обвинении — такфире. Этот термин, происходящий от слова «куфр» («безбожие»), означает отлучение того, кто является (или считает себя) мусульманином, от общины правоверных — уммы. В глазах тех, кто следует букве исламского закона в его наиболее ригористичной интерпретации, подобный безбожник уже не имеет предусмотренного шариатом права на защиту. Согласно религиозной формуле, «его кровь разрешена»: он заслуживает смертной казни.
Такфир — это своего рода приговор, не подлежащий обжалованию. Правоведы-улемы— в принципе единственные, кто правомочен его выносить с соблюдением соответствующих юридических предосторожностей, — всегда старались избегать его использования, так как применяемый не по адресу и без ограничений такфир был чреват разногласиями и смутой в рядах правоверных. Они могли взаимно отлучать друг друга от ислама, уже не соблюдая всех мер предосторожности, и обрекать тем самым умму на погибель. Но Кутб умер, не уточнив своей мысли и, таким образом, оставив открытым вопрос о том, как он понимал джахилийю и такфир с его непредсказуемыми последствиями.
Среди последователей Кутба, обсуждавших его идеи в местах заключения, выделилось три крупных направления. Крайние экстремисты считали, что безбожие царит повсюду, за исключением их небольшого ядра истинных правоверных. Они выносили тотальный такфир, распространяя его даже на своих товарищей по заключению. Другие отлучали от ислама правителей — безбожных постольку, поскольку они правили не в соответствии с повелениями, содержавшимися в священных текстах, — но не распространяли его на массу верующих. Наконец, третьи — в основном это были «Братья-мусульмане», отпущенные на свободу или жившие за пределами Египта, признававшие «верховным наставником» организации преемника аль-Банны, Хасана аль-Худайби, — предложили толковать наиболее спорные места в учении Кутба в аллегорическом духе. Разрыв с обществом, с джахилийей, должен был пониматься в духовном, а не в материальном смысле. Ведь «Братья» считали себя проповедниками, а не судьями: следовало наставлять общество, чтобы помочь ему стать более исламским, а не осуждать его за безбожие.
В конце 60-х годов три направления проявляли себя исключительно в дискуссиях, шедших внутри движения, существовавшего преимущественно в подполье: в этих дискуссиях молодежь, мечтавшая рассчитаться с государством и даже наказать всё общество за его пассивное принятие этого «безбожного» режима, спорила с уцелевшими представителями истеблишмента «Братьев». Последний, прочно обосновавшийся в Саудовской Аравии и Иордании [19] и напуганный таким радикализмом, предпочитал политический компромисс — когда он представлялся возможным — столкновению с государством: репрессии 1954 года в Египте оставили травмирующее воспоминание. «Братья» ждали своего часа — катастрофического поражения арабских армий в шестидневной войне с Израилем в июне 1967 года. Оно больно ударит по государствам, исповедовавшим арабский национализм, сделает шатким положение Насера, который подаст тогда в отставку, а потом, в самый драматический момент отменит свое решение. Консенсус по поводу националистических ценностей, доминировавших после завоевания независимости, начнет трещать по швам. Именно в эту культурную брешь вместе с другими идеологиями протеста устремится исламистская мысль, эволюционировавшая под влиянием концепций Кутба. Но в начале 70-х годов ее облик уже не определялся одним только арабским контекстом. Свой оплодотворяющий вклад в нее сделал представитель Индийского субконтинента — Маудуди.
Маудуди, исламистский политик
Поскольку Аравия была местом ниспослания исламского Откровения, а арабский язык — языком Корана, мусульманский мир нередко сводят к арабскому миру — пусть даже при этом допускается существование «периферийного» ислама, находящегося в подчиненном положении по отношению к арабскому. Тем не менее в конце XX века арабы не составляли и пятой части миллиардного мусульманского населения планеты, демографические центры которого находились на Индийском субконтиненте и в Юго-Восточной Азии. Такое же упрощение часто допускается и в отношении современного исламизма, который не ограничивается ни арабским миром, ни Ближним Востоком: он глубоко укоренен в Индии и Пакистане. Благодаря Маудуди и менее известным каналам, подобным деобандской школе, давшей жизнь движению «Талибан», тексты на языке урду, широко переводившиеся на арабский и английский языки, оказывали огромное влияние на общую эволюцию международного исламизма в минувшем столетии.
В отличие от Египта, где «Братья» были раздавлены насеровскими репрессиями 1954 года, породившими «паузу» между колониальным периодом и современной эпохой, исламизм на Индийском субконтиненте развивался непрерывно с 30-х годов до наших дней. И в те десятилетия, пока в Каире шли гонения, именно Маудуди (1903–1979) [20] в своих трудах принял эстафету, разрабатывая теории и концепции, которые позволят исламистской идеологии адаптироваться к новым политическим условиям, созданным появлением «нерелигиозных» независимых государств. Он действительно очень рано заложил культурные основы исламского государства, задуманного как антипод «мусульманскому национализму», на базе которого в 1947 году возникнет Пакистан.
В еще большей степени, чем арабские исламисты, Маудуди вначале посвящал свою деятельность культуре в широком значении этого понятия. Он занялся развитием письменного языка мусульман Северной Индии — урду, на котором блестяще зарекомендовал себя сначала как журналист, потом как писатель. Этот язык представляет собой диалект санскрита, к которому добавился широкий пласт арабской, тюркской и персидской лексики и который использует арабскую графику. Урду, [21] наследие мусульманских завоевателей Индийского субконтинента, был возведен в ранг национального языка Пакистана сразу же после образования этого государства в 1947 году. Он стал политическим символом пакистанского национализма в его противостоянии с Индией, избравшей хинди. Однако этот национализм находился в двусмысленных отношениях с исламом: его сторонники хотели сделать Пакистан «государством мусульман» Индостана, а не «исламским государством» (подобно тому, как Израиль, возникший вскоре — уже в 1948 году, — мыслился светским сионизмом как «государство евреев», а не «еврейское государство»). Пакистанские националисты хотели собрать на ограниченной территории мусульман субконтинента, руководствуясь «социологическим» принципом (не беря в расчет степень их религиозности), чтобы сделать их гражданами современного государства-нации с институтами, во многом списанными с британской модели. Создание этой придуманной нации потребовало широкомасштабного обмена населением, сопровождавшегося резней. Страна состояла из двух отдельных зон, разделенных дистанцией почти в 2000 километров: нынешнего (в то время — Западного) Пакистана и будущей Бангладеш (в то время — Восточного Пакистана). Отделение последней в 1971 году продемонстрировало хрупкость изначальной конструкции, в которой роль цементирующего начала отводилась одной лишь религиозной принадлежности. В рамках этой конструкции урду — языку культуры мусульман Дели и близлежащих районов, на котором не говорили жители территорий, вошедших в состав нового государства, — была отведена роль объединяющего национального письменного языка, лучшего проводника националистической идеологии правивших элит.