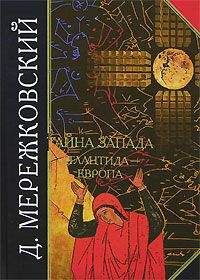Казнь Атлантиды понятна, но за что казнены афиняне — «лучшее племя людей», только что совершив «величайший подвиг»?
Вспомним еще раз, в конце беседы, ее начало и цель: плотью и кровью облечь отвлеченную схему Сократовой истины, показать совершенную республику — «Град Божий» — в героическом действии. Что же показано? Общая гибель злых и добрых. «Участь одна праведному и неправедному, доброму и злому… Все идет в одно место: изошло из праха и отыдет в прах» (Екклезиаст). Но ведь, с такою мудростью, если что и построишь, то разве только «Город мертвых», а не «Город живых».
Или прав Титан:
Новый кормчий правит небом,
На Олимпе Зевс насильем
Стародавние законы
Святотатственно попрал?
(Aesch., Promet., v. v. 148–151)
Прав Иов: «О если бы человек мог состязаться с Богом, как сын человеческий с ближним своим!» — «Вот я кричу: „Обида!“ и никто не слушает; вопию, и нет суда»? (Иов., 16, 21; 19, 7.)
Или правее всех жена Иова: «Похули Бога и умри»? (Иов., 2, 9.)
XV
Здесь, у Платона, концы с концами не сходятся: начал за здравье, кончил за упокой Сократовой и своей Республики. Град Божий — плод всей своей мудрости — хотел вознести до неба и низверг в преисподнюю; только что попробовал сдвинуть его неподвижную схему, как все рушилось, словно песочная башенка, игрушка детей.
«Люди-боги» или Сократовы «демоны» вели наилучшим путем наилучшую Республику, и вот до чего довели — до хулы на Бога в бессмысленной гибели.
XVI
Или Зевс все-таки прав, казнив атлантов и афинян общею казнью, потому что и эти не лучше тех: «всякая плоть извратила путь свой на земле»? Но, если, как учит Платон, от «уцелевшего малого семени» первого человечества произошло второе, то нет ли и в нем той же заразы, и спасут ли его новые «люди-боги», вожди новой Республики, — не поведут ли тем же путем к той же гибели?
Знает ли это Платон? Или того, что знает о далеких атлантах, не хочет знать о близких афинянах, — закрывает на это глаза от какого-то страха?
XVII
Страх смертный находил на него, когда он писал «Атлантиду»; не дописав, умер от страха. Кажется, читая последние строки диалога, видишь, как рука его слабеет, дрожит.
Конец «Атлантиды» — конец Платона. Ею он болен, от нее умирает. Остров Блаженных — предсмертная греза его, горячечный бред:
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он взял легко над гремящею тьмой —
тьмой смерти.
XVIII
«Если не покаетесь, все также погибнете!» — хочет он крикнуть афинянам, видя гибель атлантов, и не может, — чувствует, что ему самому нужно в чем-то покаяться, но не знает, в чем.
XIX
Есть у Платона диалоги метафизически более высокие, но нет более трагически-глубокого, чем этот. В «Атлантиде» вся его собственная трагедия. Чем больше вглядываешься в нее, тем яснее видишь, что он ее не выдумал, а только передал в ней то, что слышал от других, во что другие верили. Верил ли и он?
«Атлантида была — Атлантиды не было», двуострое жало этой дилеммы, кажется, пронзает сердце Платона еще больнее, чем наше; эта загадка для него еще неразгаданней.
XX
Люди перед смертью иногда сходят немного с ума: «Атлантида» — такое безумье Платона.
«Я не чувствую в себе прежней твердости рассудка», — признавался Ньютон, когда писал «Комментарий к Апокалипсису». В том же мог бы признаться и Платон, когда писал «Атлантиду».
«Выжил старик из ума!» — может быть, смеялись над ним афиняне, так же, как потом, над апостолом Павлом, благовествовавшим «безумие креста»: «Об этом послушаем тебя в другое время!» (Деян. 17, 32.)
Павлу смех не страшен: он знает, что «мудрость человеков — безумие пред Господом». Этого не знает Платон и, если не договаривает многого, то, может быть, потому, что даже в предсмертном бреду боится смеха больше, чем смерти.
XXI
Можно сказать, что Платон умер, так же как вся языческая древность, от жажды и голода — жажды истинной Крови, голода истинной Плоти: плоть и кровь в Дионисовых, Озирисовых, Таммузовых и прочих таинствах не утоляют, потому что призрачны.
Бог Загрей-Дионис, растерзанный титанами где-то на небе, вечно сходит на землю в образе жертвы-Быка, чтобы насытить алчущих плотью своей, утолить жаждущих кровью: в это можно верить, как в сокровенное знаменье, символ — святую и мудрую сказку древности. Бог сошел на землю однажды в образе человеческом — Орфея-пророка или Вакха-царя, завоевателя Индии, вошел из вечности в века — в историю, родился, жил и умер, как человек, лицо историческое, о чем, однако, забыла история, и помнит только миф, — верить в это люди уже не могут, только что научились отличать миф от истории. «Было» — говорит миф; «не было» — говорит история; «будет» — могла бы сказать мистерия, но если и сказала, то не так, чтобы оправдать себя в истории.
Миф рассеялся, как фимиам с жертвенника; огонь потух, храм опустел, и опустошилось таинство, сделавшись холодною мудростью книжников, пламенным бредом безумцев или тою ужасною пыткою, о которой говорит пророк: «Как алчущему снится, будто он есть, но пробуждается, и душа его тоща; и как жаждущему снится, будто бы он пьет, но пробуждается, и вот, он томится, и душа его жаждет: так будет и множеству всех народов» (Ис. 29, 2).
Это и значит: будут умирать от жажды и голода. Так умер и Платон.
В смертной муке не помог ему Сократ — Сократ, отказавшийся от посвящения в Елевзинские таинства, потому ли, что не очень был голоден и жаждал, или потому что плохо верил в утоление таинством. Посвящаться отсоветовал ему и Демон. Что такое Демон Сократа, — в ином роде загадка, но почти такая же темная, как «Атлантида» Платона. Вежливо отказался от посвящения Сократ, а ученик его, Алкивиад, за грубое кощунство над тем же таинством приговорен был к смерти и спасся только бегством. Другой ученик, Еврипид, за такое же кощунство в «Вакханках» над Дионисовым таинством, растерзан был дикими овчарками или мэнадами, у подножья горы Пангея, на родине своей — родине Вакха. Еврипид — «безбожник» тайный, а Эпикур, тоже ученик или почти ученик Сократа, — безбожник явный. Судьи Сократа, осудившие его самого за «безбожье», конечно, грубо ошиблись, но, может быть, не так грубо, как это кажется нам: «демон» его опаснее, чем и это нам кажется.
XXII
Вся «Атлантида» — мистерия; вся — на крови: «пили кровь». Не потому ли Сократ и молчит о ней так упорно? «Это не басня, а сущая истина», — сказал и умолк, может быть, усмехаясь «демонически»; сам же искусил ученика и сам же покинул его в смертной муке.
«Отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы смочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламене сем» (Лук. 16, 24).
Нет, перста своего не омочит Сократ, языка не прохладит Платону.
Тот же огонь, что сжигает его, сжег и Атлантиду, и все воды Атлантики огня не зальют: вспыхнет снова и сожжет мир.
Два бывают конца — водный и огненный, потоп и пожар hydatôsis — ekpyrosis по орфической эсхатологии (Franz Cumont, Les religions orientales dans je paganisme romain, 1909, p. 261. — Berossos, Babylon., Fragm., ар. Damascium.): это знает Платон, этого страшится и жаждет — умирает от жажды и страха.
XXIII
Стаи перелетных птиц каждый год слетаются туда, где была Атлантида, кружатся над водою, ищут земли, не находят, и часть их падает в воду, изнеможенная, а остальные улетают обратно (Lewis Spence, The problem of Atlantis, 1925, p. 55). То, что мы называем «инстинктом», — вещее «знание-воспоминание», anamnesis Платона, — сильнее в животных, чем в людях: десять лет для него минута. Древнюю родину, Остров Блаженных, помнят они, как вчера.
Манит нас всех Океан, обтекающий Остров Блаженных.
Люди забыли его — птицы помнят.
Помнит и вещий мудрец: в поисках древней родины, кружится над океаном, ищет земли, не находит ее, падает в волны и, умирая, сладкозвучно поет Гиперборейский лебедь, Платон.
I
«Видел я в ночных видениях: вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И дана Ему власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему» (Дан. 7, 13–14).
Если на каких-либо словах Писания останавливался взор Иисуса Назорея чаще всего, то, вероятно, на этих — пророка Даниила — о Сыне торжествующем, и еще на тех — пророка Исаии — о Сыне страдающем: «как овца, веден был на заклание» (Ис. 53, 7). Кажется, из слов Даниила Он и взял имя Свое, впервые на земле, прозвучавшее здесь: bar enasch, «Сын Человеческий». И если основная ось христианства есть откровение о Сыне, то можно сказать: не будь Даниила, христианства бы не было.
II
Книга Даниила появилась около середины II века до Р. X., а лет через пятьдесят первая повествовательная часть книги Еноха, Mashafa Hênôk, и еще лет через пятьдесят — семьдесят, почти в самый канун Рождества Христова, — вторая часть ее, апокалипсическая, — «Притчи Еноха» (W. Baldensperger, Die messianisch-apokalyptischen Hoffnungen des Judenthums, 1903, p. 17–22).