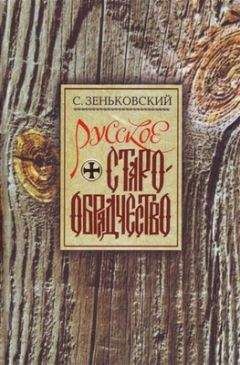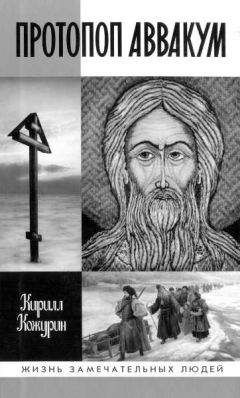Непочитание икон христовцами отмечал и Евфросин, который тоже наблюдал эту новую секту и в Павловом Перевозе, и в северной части Костромского края, где он боролся с беспоповскими самосжигателями. Как всегда, чередуя несколько тяжеловесный стиль богословских рассуждений с иронической рифмой скоморошьего типа, Евфросин оплакивал раскол внутри самих противников никонианских новшеств:
Егда же время вознешеся в долготу,
и гонения распростреся в широту,
быть возмущение и меж гонимыми не мало:
но в различные толки рассекоша себя сами…
вси любят зватися староверцы,
а иные посреди обретаются зловерцы,
…яко ж Костромские лже–христомужи…
окоянии ж их пророцы,
пагубы внуцы,
Павлова ж перевозу духомолцы
и иконоборцы[259].
В другом месте своего “Отразительного письма” Евфросин еще резче громил павловских и костромских “лже–христомужей”:
Павловцы–иконоборцы,
проклятии поганцы,
и есть и будут и бусорманы,
а не христиане.
Костромичи лже–христовцы,
мерзостнее и проклятее,
и да никто от христиан,
дерзнет их, врагов, христианами звати[260].
Из резких характеристик, данных Кириком и Евфросином, которые сами могли наблюдать христовцев и непосредственно ознакомиться с их христологией, наиболее ярко выделяются две черты этого нового течения: эти сектанты были духомольцы, то есть мистики, и у них были лже–христомужи, или пророки, называвшие себя Христом или Богом. Уже неоднократно цитируемый в этой работе В. Фролов, который тоже ознакомился с христовцами около 1700–го года, почти что при самом зарождении их секты, и затем наблюдал их в разных местах России, дает, как всегда, краткую, но систематическую характеристику их богословия, которое он по имени вожака одного из христовских “кораблей”, или общин, называет Наговщиной.
Схематизируя учение христовской секты, Фролов пишет: “Сия же их пакостная ересь:
1. иконам не поклоняется
2. своему учителю Ивану честь и поклон отдает, подобный яко Христу
3. руку его целовали яко Христу
4. свещи перед ним вжигали
5. девку имели некую скверную за Богородицу
6. за 12 апостолов имели мужиков простых
7. ядуще нощию тайно от людей
8. во одной келий темной жил мужеск пол и женск…
9. сей Иван Нагой дивы некия несказанныя мерзкия показоваше своим последователем, страшно иже писати…”[261]
Фролов отмечал, что помимо тех общин, которые он наблюдал в Касимовском уезде Рязанщины, движение христовцев распространилось на Балахонский уезд Нижегородских пределов, на Онежский край, и что христовцы “яко жиды” бегут от правительственных преследований “в разные страны и украйны”, распространяя и там свою ересь[262].
Точная духовная история и происхождение христовщины все же остаются не вполне ясными. Полагают, что ее основателем был некий Данила Филипов, живший в последней трети XVII века в Костроме и выдававший себя за “бога саваофа”[263]. В то же время в Москве во главе этого учения стоял “христос” Иван Тимофеевич Суслов, в доме которого была и первая известная “сионская горница”. В этих “сионских горницах”, или храмах Божьих людей, как сами себя называют христовцы, обычно происходят радения, на которые, видимо, намекал и Фролов, говоря о “дивах некоторых несказанных мерзких”. Радения — это непериодически созываемые собрания общины, или “корабля” Божьих людей, во время которых после песнопений и молитв экзальтированные последователи секты начинали кружиться, пророчествовать и, как вслед за Фроловым уверяли официальные миссионеры церкви, власти и другие несочувствовавшие секте наблюдатели, даже предавались оргиям, которые истолковывались самими христовцами как часть религиозного экстаза и мистического общения между “христом”, “саваофом”, “богородицей” и другими членами “корабля”[264].
В эти ранние времена, 1670—1680–е годы, когда христовщина только начала развиваться в Павлове, которое упоминают и Авраамий и Евфросин, местным Павловским “кораблем” руководил еще один “христос”, некий Иван Васильев[265]. В печальный первый век раскола внутри русской церкви христовщина начала распространяться среди монашества, особенно в подмосковных и московских обителях. Ссылки монахов и суровые правительственные гонения остановили развитие христовщины в монастырях, но это необычайно гибкое, охватывавшее самые разнообразные социальные группы движение не погибло.
В начале XIX века, когда при Александре I высшее русское общество начало увлекаться мистицизмом, хлыстовщина, или христовщина, очень окрепла в Петербурге. Там ее главной руководительницей была Е. Ф. Татаринова, урожденная Буксгевден, жена бывшего директора рязанской гимназии, которая начала устраивать собрания в том же Михайловском замке, в котором руками гвардейцев был убит несчастный император Павел I[266]. “Божьи люди”, как часто себя называли последователи христовской секты, распространились по всей России, но секта продолжала оставаться тайным, эзотерическим обществом, закрытым для широких кругов и ведшим осторожную пропаганду среди избранных групп населения.
Происхождение христовщины, может быть, следует искать в сочетании проникавших в Россию элементов мистического протестантизма с русскими народными верованиями. Один из пропагандистов экзальтированного мистицизма в Москве Квирин Кульман, последователь немецкого мистика Беме, хорошо известен, но не он начал пропаганду западного мистицизма в России: когда в 1680–х годах Кульман жил и проповедовал в Москве, христовщина уже успела сложиться в довольно распространенное движение. Сочинения Беме стали популярны среди русских мистиков только позже, в XVIII веке, и были тогда даже переведены на русский язык и изданы в России. Поэтому очень трудно проследить, кто из западных протестантов посеял семена неправославного мистицизма на Руси. В Москве и в других городах Московской Руси в последние десятилетия XVII века проживали двадцать или тридцать тысяч иностранцев–протестантов, и, конечно, они были особенно многочисленны в самой столице и городах, которые, как, например, Кострома, вели к портам Северной России. Среди них, несомненно, были последовательные и убежденные проповедники своих религиозных учений, которые, несмотря на все предосторожности, принятые в середине XVII века правительством, все же могли тайком и исподтишка вести свою конфессиональную пропаганду среди окружавшего их русского населения. Да и строгости, заведенные при патриархах Иосифе и Никоне, значительно ослабели к концу века. В самой Москве в конце 1670–х и 1680–х годах шли крикливые споры о хлебопоклонных “еретических” учениях Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева. Спор шел о времени преложения святых Даров, и московские книжники разделились на “латинствующих”, как и католики, утверждавших, что преложение св. Даров происходит во время произношения слов “приимите ядите”, и “эллинствующих” во главе с киевлянином Епифанием Славинецким, который стоял на строго православной точке зрения.
Некий Ян Белободский, западнорусс, появившийся в Москве в 1681 году, тогда же открыто выступал с изложением своих несколько путаных взглядов, в которых католические элементы перемешивались с лютеранскими и кальвинистскими. Австрийские — по преимуществу чешские — иезуиты, приехавшие на Русь в составе цесарской дипломатической миссии, приобрели в Москве под видом торгового предприятия свой дом, откуда тоже вели конспиративную пропаганду католичества и разжигали споры о моменте преложения святых Даров. Правда, после падения Софьи старый патриарх Иоаким — все тот же Иоакимушка Аввакума — изгнал иезуитов из столицы и искоренил латинствующих учителей из Московской славяно–греко–латинской академии. В 1690 году он, как всегда, действуя осторожно и опираясь на мнение большинства церкви, созвал новый собор, на котором была предана анафеме хлебопоклонная “ересь” Медведева и Полоцкого. Конечно, он охотно отозвался и на жалобы, шедшие из лютеранских и кальвинистских кругов Москвы на апокалиптического экзальтированного проповедника Квирина Кульмана. С удовольствием прислушавшись к жалобам и советам ортодоксов протестантизма в Москве о необходимости уничтожения этого опасного пророка, Иоаким по настояниям немцев решил сжечь в срубе несчастного и вряд ли вполне уравновешенного проповедника Квирина[267].
Но торжество “Иоакимушки” было напрасным, и эта его последняя победа была пирровой победой русского патриарха. Несмотря на все строгости патриарха Иоакима, Москва, а за нею и весь высший класс русского общества продолжали отходить от старинных византийских образцов культурной и политической жизни. Уже со времен Смуты иностранное западное влияние начало глубоко проникать в русскую интеллектуальную жизнь. Реакция на это влияние, начавшаяся после Смутного времени при патриархе Филарете, а затем при Иосифе, боголюбцах и Никоне, была подорвана расколом внутри церкви, образовавшимся в результате реформ Никона. Когда консервативные и наиболее убежденные вожди церкви порвали с иерархией и ушли в старообрядчество, сама церковь необычайно ослабела. Среди иерархов, монашества и рядового духовенства больше уже не нашлось сильных и мудрых руководителей, способных укрепить влияние церкви, зашатавшееся и ослабевшее под натиском западной секуляризованной культуры.