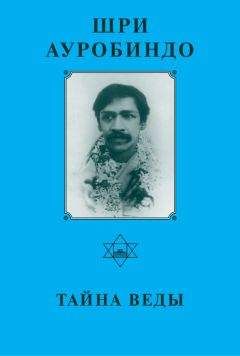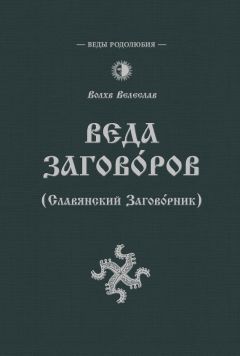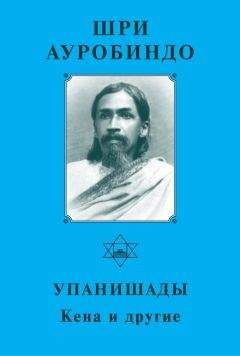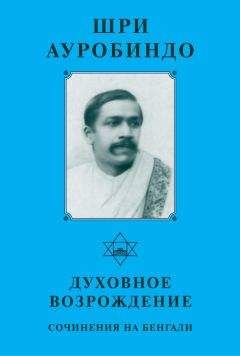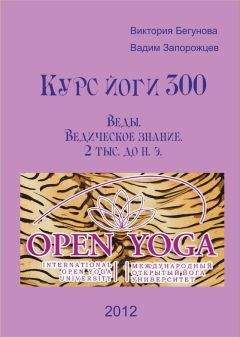Я рассказал достаточно, чтобы пояснить характер поиска, который я намерен провести в данной работе. Его характер с неизбежностью возникает из самой природы стоящей перед нами проблемы: процесса рождения и формирования языка. В естественных науках мы имеем дело с простым и однородным материалом для исследования, ибо сколь бы ни были сложны силы и составляющие процесса, все они относятся к одной природе и управляются одним классом законов; все составляющие есть формы, развившиеся в результате колебаний материального эфира, все силы есть энергии этих колебаний эфира, которые либо соединились в составляющие формы объектов и действуют внутри них, либо свободно воздействуют на объекты извне. В науках же ментальных мы сталкиваемся с разнородным материалом, с разнородными силами и действиями сил; вначале нам приходится иметь дело с физическим материалом и средой, чья природа и действия сами по себе не представляли бы особых трудностей для исследования, достаточно упорядоченных в действии, если бы не второй элемент, ментальный фактор, действующий внутри и воздействующий извне на свою физическую среду и материал. Мы видим летящий крикетный мяч, мы знаем элементы движения и статики, которые действуют в полете и влияют на полет, и без особого труда можем или рассчитать, или прикинуть не только в каком направлении продлится полет, но и куда упадет мяч. Мы видим летящую птицу – это такой же физический объект, как мяч, движущийся в той физической среде, но нам неизвестно ни направление полета, ни место, где птица сядет. Материал тот же – физическое тело, среда та же – физическая атмосфера, в известной степени та же и энергия – физическая энергия праны, как она именуется в нашей философии, присущая материи. Однако этой физической силой овладела другая – не физическая, действующая в ней и воздействующая на нее, осуществляющая себя через нее, насколько это позволяет физическая среда. Речь идет о ментальной энергии, и ее присутствия достаточно, чтобы изменить чистую или молекулярную праническую энергию, которую мы наблюдали в мяче, в смешанную или нервную праническую энергию, наблюдаемую в птице. Но если бы мы сумели так развить наши ментальные восприятия, чтобы прикинуть или рассчитать силу нервной энергии, ведущую птицу в момент полета, мы все равно не могли бы определить его направление или цель. Причина в том, что вопрос не только в различии между энергиями, но и в различии фактора силы. Действующая сила здесь – это ментальная энергия, обитающая в чисто физическом объекте, энергия ментальной воли, которая не просто находится в объекте, но и обладает известной свободой. В полете птицы есть некая намеренность, если мы в состоянии ее воспринять, то можем и вынести суждения о том, полетит ли птица дальше или она сядет, при условии, конечно, что ее намерение останется неизменным. И крикетный мяч был брошен с участием определенной ментальной силы, с неким намерением, но та сила находилась вне мяча, а не обитала в нем, поэтому мяч, будучи запущен в определенном направлении и с определенной силой, не может изменить направление или превысить силу, если только его не повернет или не подтолкнет новый объект, встреченный в полете. Сам по себе мяч не обладает свободой. Птицей тоже руководит ментальная сила, несущая намеренность, она задает ей определенное направление при определенной силе нервной энергии в полете. Если ничего не меняется в ментальной воле, направляющей птицу, ее полет, вероятно, можно рассчитать и определить, как полет мяча. Птицу тоже может повернуть некий встреченный ею объект – дерево, или опасность на пути, или что-то заманчивое в стороне от пути, но ментальная воля живет в самой птице, можно сказать, что воля свободна выбирать, желает ли она свернуть в пути или нет, будет ли она продолжать полет или нет. Но воля свободна и полностью изменить изначальную намеренность без всяких внешних причин, увеличить или уменьшить выброс нервной энергии в действии или же употребить ее на движение в направлении той цели, которая совершенно чужда начальному намерению. Мы можем изучать и оценивать физические и нервные силы, используемые ею, но не можем создать науку о полете птицы, если не проникнем за материю и материальную силу, если не изучим природу этого сознательного фактора и законы – коли таковые существуют, – которые определяют, отменяют или ограничивают его видимую свободу.
Филология есть попытка сформировать такую ментальную науку – ибо язык обладает этим двойственным аспектом; материал языка – физический: звуки, создаваемые языком человека, вызывают вибрации воздуха; но при этом подключается нервная энергия, молекулярная праническая деятельность мозга, использующего голосовые средства, которая в свою очередь модифицируется и используется ментальной энергией, нервным импульсом, чтобы выразить, выделить из сырого материала ощущения ясность и точность идеи; сила, использующая ее – это ментальная воля, свободная, насколько мы можем увидеть, – но свободная лишь в рамках своего физического материала – варьировать и определять использование ею для этой цели возможностей звуков человеческого голоса. Чтобы добраться до законов, которые управляли образованием любого человеческого языка – а моя цель сейчас рассмотреть не происхождение человеческой речи вообще, но только арийской речи, – нам требуется изучить, во-первых, как эта сила определяла и применяла голосовой инструмент, во-вторых, как была установлена взаимосвязь между конкретными выражаемыми идеями и конкретным звуком или звуками, выражающими их. Постоянно должны присутствовать эти два элемента: структура языка, его семена, корни, образование и рост и психология использования этой структуры.
Дошедшая до нас структура санскрита, единственная среди арийских языков, все еще сохраняет этот изначальный тип арийской структуры. Только в этом древнем языке мы видим не только в первоначальных формах, но и в первоначальных существенных частях и правилах образования костяк, члены и внутреннюю структуру этого организма. Значит, через изучение санскрита, в особенности через изучение с помощью всего того, что мы можем почерпнуть из других наиболее упорядоченных и структурированных арийских языков, должны мы отправиться на поиск наших истоков. Мы сталкиваемся со структурой, поражающей своей изначальной простотой, а также математической и научной строгостью образования. В санскрите есть четыре открытых звука или чистые гласные: a, i, u , ṛ с их долгими формами: ā, ī, ū, ṝ. Необходимо упомянуть, хотя в практических целях можно и опустить, редко встречающуюся гласную lṛ. К этому добавляется два других открытых звука, которые грамматисты, вероятно, справедливо рассматривают как нечистые гласные или модификации i и u, это гласные e и o с их дальнейшими модификациями в ai и au . Затем мы имеем пять симметричных варг, или классов, закрытых звуков или согласных: задненебные k, kh, g, gh, ṅ; небные c, ch , j, jh, ñ; церебральные, приблизительно соответствующие английским зубным согласным, ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ; чисто зубные согласные, соответствующие кельтским или континентальным, какие мы находим в ирландском и французском, испанском или итальянском, t, th, d, dh, n, и губные p, ph, b, bh, m. В каждый из этих классов входят глухие звуки: k, c, ṭ, t, p, и они же с придыханием: kh, ch, ṭh, th, ph; соответствующие звонкие звуки g, j, ḍ, d, b, в придыхательной форме gh, jh, ḍh, dh, bh, и класс носовых согласных ṅ, ñ, ṇ, n, m. Однако среди носовых только три последних употребляются самостоятельно или имеют самостоятельное значение, остальные являются модификациями общего носового звука m, n и употребляются только в сопряжении с другими согласными своего класса, существуя благодаря этому сопряжению. Своеобразен и класс церебральных, они находятся в такой тесной близости к зубных согласным, как по звучанию, так и по использованию, что вполне могли бы рассматриваться как модификации зубных согласных и не выделяться в отдельный класс. В дополнение к обычным гласным и согласным есть еще класс, составленный из четырех плавных: y, l, r, v, которые, очевидно, рассматриваются в качестве полугласных: y как полугласная форма i, v – полугласная форма u , r – полугласная форма ṛ и l – полугласная форма lṛ; этот полугласный характер звуков r и l есть причина, по которой в латинской просодии не всегда используется полная сила согласного, из-за чего, например, u в volueris может быть по выбору долгим или кратким; затем мы имеем тройной шипящий звук ś, ṣ, и s: ś небное, ṣ церебральное и s зубное, и чисто придыхательное h. За возможным исключением класса церебральных и изменчивых носовых, я полагаю, едва ли можно сомневаться в том, что санскритский алфавит представляет собой изначальный голосовой инструмент арийской речи. Его упорядоченный, симметричный и методический характер очевиден и даже мог бы вызвать у нас соблазн видеть в нем создание некоего научного интеллекта, не знай мы, что природа в определенной части своего чисто физического действия проявляет именно такую упорядоченность, симметрию и жесткость, ум же, по крайней мере, в своем раннем, не интеллектуализированном проявлении, когда человек больше руководствовался ощущениями и импульсом и его восприятие было непосредственным, больше склонен к неупорядоченности и непредсказуемости, чем к методичности и симметрии. Мы даже можем сказать – не в абсолютном смысле, а в пределах лингвистических фактов и исторических периодов, с которыми мы имеем дело, – что чем больше симметричности и неосознанной научной упорядоченности, тем древнее историческое время языка. На развитых стадиях язык обнаруживает все большую изношенность, стертость, изменчивость, утрату полезных звуков, переход – иногда кратковременный, иногда постоянный – избыточных вариаций одного звука в ранг отдельных букв. Такую вариацию, не преуспевшую в постоянстве, можно увидеть в ведийской модификации звонкого церебрального ḍ в церебральный плавный ḷ. Звук исчезает из позднейшего санскрита, но закрепляется в тамили и маратхи. Таков простой инструмент, при помощи которого была создана величественная и выразительная гармония санскрита.