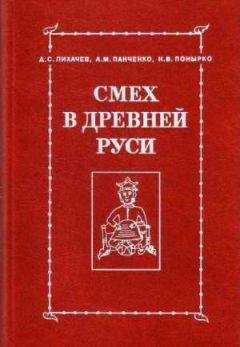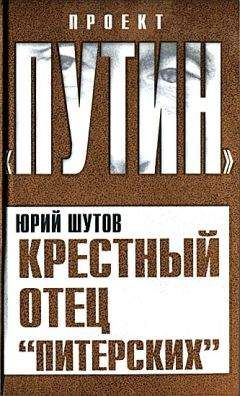юродивый Гурий.[104] Дело было во время знаменитой осады Соловецкого монастыря. Воспользовавшись тем, что пути сообщения с «миром» еще не были перекрыты царскими войсками, Игнатий и несколько его приверженцев ушли из монастыря. Быть может, уход был истолкован сражающимися монахами как измена или трусость. Но со временем, когда дьякон Игнатий Соловецкий сподобился мученического венца, «выметание» стали интерпретировать как спасение, как благословение на будущие подвиги во имя старой веры.
Все юродство, говоря фигурально, это жест — загадочный и парадоксальный. В зрелище жест выполняет коммуникативную функцию: с помощью жеста юродивый, подобно миму, общается со зрителем. Но иногда жест становится игровым, парным. Лицедей бросает каменья в толпу — толпа отвечает ему тем же. Для глаз это повторяющийся жест, но для разума — контрастный (вспомним о символическом толковании этой кинетической фразы юродивого). Контраст может быть и зрелищным. Юродивый смеется — и это, по видимости, грех для подвижника, а зритель,
113
если в нем есть хоть крупица нравственного совершенства, должен плакать, как плачет юродивый наедине с собой.[105]
Юродивый наг и безобразен, а толпа обязана понять, что в этом скудельном сосуде живет ангельская душа. Выше уже отмечалось, что это безобразие согласовалось с раннехристианским идеалом, когда христианство еще не примирилось с красотой, с изящными искусствами, когда плотская красота считалась дьявольской. Конечно, ни зрители, ни юродивый не знали этой древней традиции. Они могли также не учитывать того, чтоюродство как бы повторяет крестный путь спасителя, ибо эта мысль относилась к сфере богословия, доступной далеко не каждому. Но общая посылка, на которой произросло юродство, была более или менее очевидной для всех: красота и тело — ничто, нравственность и спасение души — все. Цель юродивого — благо, польза, личная и общественная. Впрочем, как уже отмечалось (см. раздел «Древнерусское юродство»), благо никак не вытекает и из безобразия, и это — также один из парадоксов юродства.
Для понимания феномена этот парадокс небезразличен. Будучи полемически заострено против общепринятых, «филистерских» норм поведения, выставляемое напоказ телесное безобразие преследовало духовно–нравственные цели. Однако в то же время оно подчеркивало уникальность юродства в системе средневековых зрелищ. Юродство ярким пятном выдавалось на фоне официальных действ, церковных и светских, с их благопристойной красотой и торжественным чином. Но даже в сравнении с народным карнавалом, со скоморошьими представлениями, где царило безудержное веселье, юродство потрясало зрителя. Самое безобразное зрелище претендовало на роль зрелища самого душеполезного.
На поверхностный взгляд, все эти противоречия могли быть устранены без особых затруднений: ведь достаточно зрителю осознать, что на юродивом почиет благодать, как все игровое действо разрушается. Швырянье каменьев и плевки не будут возмущать толпу, нагота не будет резать глаза, а эпатирование безнравственностью не оскорбит чувства приличия. Казалось бы, проникнуться таким настроением легко: к синодальному периодуправославная церковь почитала несколько десятков юродивых, и если не полные жития их, то службы и проложные памяти были отлично ведомы рядовым прихожанам. В службах
114
повторялись мотивы «биения, и укорения, и пхания от невеглас», и богомольцам следовало бы раз навсегда понять свою вину. И все‑таки время текло, а «безумные человеки» не хотели ничему научиться. В чем тут дело, отчего драма юродства разыгрывалась веками, отчего занавес опустился только при Петре, когда Синод
перестал признавать юродивых подвижниками?
Один из основных постулатов церкви гласит, что святость может быть установлена лишь по смерти, если бог почтит подвижника посмертными чудесами и, исцелениями. В этом отношении юродивый подобен затворнику, пустыннику или столпнику. Но при жизни он отличается от них, и отличается очень сильно. Если самая благочестивая жизнь — еще не порука святости, то бесспорно по крайней мере, что такая жизнь благочестива в глазах окружающих. О юродивом же до его смерти ничего опреде–ленного сказать нельзя. Может быть, это юродивый «Христа ради», а может быть — мнимоюродивый, и тогда позволительно обращаться с ним так, как обращались с Прокопием устюжские нищие: «Иди ты да умри, лживей юроде, зде бо от тебе несть нам спасения!».[106]
Лжеюродство становилось предметом церковных установлений. В указе патриарха Иоасафа от 14 августа 1636 г. «о прекращении в московских церквах разного рода безчинств и злоупотреблений» сказано: «И во время же святаго пения ходят по церквам шпыни с безстрашием, человек по десятку и болши, и от них в церквах великая смута и мятеж, ив церквах овоща бранятся, овогда и дерутся… Инии же творятся малоумни,. а потом ихвидят целоумных… а инии во время святаго пения во церквах ползают, писк творяще, и велик соблазн полагают в простых человецех».[107] Среди прочих в этом указе названы и лжеюродивые, которые сделали из юродства промысел, дающий пропитание. Они рассчитывают на легковерных людей; это они «творятся малоумны, а потом их видят целоумных».
Следовательно, юродству знакомы и подделки. В то же время светские и церковные власти охотно объявляли подделкой и подлинное юродство: когда была нужда расправиться с обличителем, они прибегали к обвинению в лжеюродстве. В таких случаях подвижник лишался неприкосновенности, и с ним можно было делать все, что угодно, — заточать, ссылать, истязать и казнить.
Для толпы распознание юродивого «Христа ради» от мнимоюродивого было по сути дела невозможно. Если рассматривать феномен древнерусского юродства не апологетически, а с позиции здравого смысла, то разница между мистическим преображением и притворством не может быть замечена. Противопоставление юродства лжеюродству было аксиомой для человека средних веков, но при созерцании юродственного зрелища он не былв состоянии решить, кто лицедействует перед ним — святой или
115
святоша, «мудрый безумец» или убогий дурачок, подвижник или притворщик. Поэтому действие юродства с его драматическим, страстным напряжением и парадоксальностью разыгрывалось снова и снова, пока иные времена, иные аксиомы и иные зрелища не отодвинули его в область предания.
й отпрыск младшей московской линии, которая пошла от сына Димитрия Донского Юрия. Когда Шемячича «посадили в тюрьму, на московских улицах появился блаженный с метлой. На вопрос, зачем у него метла, онотвечал: „Государство не совсем еще чисто; пора вымести последний сор"».[108]
Слов юродивого вполне достаточно для интерпретации «выметания». Это, как правило, очищение («сор за порог»). Так опричники, у которых метла была непременным атрибутом, «выметали» крамолу. Так они демонстративно «выметали» из Успенского собора несчастного митрополита Филиппа Колычева (кстати, в европейских памфлетах самого Ивана Грозного именовали «божьей метлой»). В связи с этим закономерно появление наследовавших Пугачеву самозванцев, которые носили прозвища Метелкин—Пометайло—Заметайло (это были и реальные лица во плоти и крови, и призрачные, чаемые избавители),[109]
Во всем этом нет парадокса. Он появился в эпизоде, связанном с соловецким дьяконом Игнатием, проповедником и практиком самосожжений, который погиб в организованной им палеостровской «гари» 1687 г. Согласно старообрядческим источникам, за двадцать лет до этого Игнатия «вымел» из Соловков инок-
юродивый Гурий.[110] Дело было во время знаменитой осады Соловецкого монастыря. Воспользовавшись тем, что пути сообщения с «миром» еще не были перекрыты царскими войсками, Игнатий и несколько его приверженцев ушли из монастыря. Быть может, уход был истолкован сражающимися монахами как измена или трусость. Но со временем, когда дьякон Игнатий Соловецкий сподобился мученического венца, «выметание» стали интерпретировать как спасение, как благословение на будущие подвиги во имя старой веры.
Все юродство, говоря фигурально, это жест — загадочный и парадоксальный. В зрелище жест выполняет коммуникативную функцию: с помощью жеста юродивый, подобно миму, общается со зрителем. Но иногда жест становится игровым, парным. Лицедей бросает каменья в толпу — толпа отвечает ему тем же. Для глаз это повторяющийся жест, но для разума — контрастный (вспомним о символическом толковании этой кинетической фразы юродивого). Контраст может быть и зрелищным. Юродивый смеется — и это, по видимости, грех для подвижника, а зритель,
если в нем есть хоть крупица нравственного совершенства, должен плакать, как плачет юродивый наедине с собой.[111]