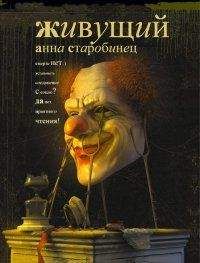Очевидно, что создание урского государственного устройства стало возможным благодаря постоянному приложению человеческих усилий, но чьих именно? Общества (или хотя бы его части) или абсолютного главы государства, внедрившего в общество свое видение мира? Не видим ли мы в урской детализации и всеобщей упорядоченности последствий долгой жизни и непрерывной деятельности одного человека, наиболее знаменитого правителя III династии — реформатора и преобразователя Шульги?
Нельзя исключить, что урская система — не результат социального консенсуса, а навязанный обществу плод усилий одного Шульги (вдруг расточаемые ему панегирики справедливы хотя бы отчасти?) и небольшой группы его приверженцев. Тогда он был отнюдь не последним преобразователем в истории человечества, чьи усилия пошли прахом вскоре после его смерти. Или все-таки не пошли? Ведь благодаря Уру III династии произошла культурная рецепция шумерской цивилизации ее наследниками, а через них — и нами.
Но мог ли город, наиболее примечательным событием истории которого была гибель от руки кочевников-амореев, стать городом-легендой, первым мировым городом? Пожалуй, нет. От Ура остались отдельные мелкие подробности, замечательно раскопанные древние сооружения, главнейшим из которых является упомянутый нами зиккурат — вероятно, старший брат вавилонской башни, а возможно, ее прототип[128]. Лестница в небо, разрушившаяся раньше своей вавилонской сестры — и во времени, и в культурном пространстве. Судьба Ура — исчезнуть, удел Вавилона — жить.
Шумерская легенда — сравнительно недавнего происхождения, и ее нахождение в культурном обиходе еще отнюдь не закреплено. Начало ей было положено в 1872 г., когда Джордж Смит, молодой служитель Британского музея, прочитал на одной из клинописных. табличек легенду о Всемирном потопе, необычайно схожую с библейской, но явно более древнюю. Благодаря этому аккадская письменность и культура стали предметом общественного интереса, а спустя некоторое время было окончательно установлено, что в Древней Месопотамии существовал еще один клинописный язык, более старый, чем аккадский-вавилонский[129]. Так шумеры вернулись в культурный обиход человечества. Пустота, какой представлялась добиблейская древневосточная история, постепенно начала заполняться.
Однако в ней и по сей день множество лакун, и, скорее всего, многие из них навечно обречены остаться зияющими. Опираясь лишь на археологию, связную историю написать тяжело, а иных способов нет. Результаты же раскопок будут по определению фрагментарны. Если удастся обнаружить крупный город с обширным архивом, как это не так давно произошло с Эблой, расположенной в северо-восточной Сирии, то сразу станет ясно, что он был центром значительного государства. Первооткрыватели в таких случаях начинают немедленно тянуть одеяло на себя, утверждая, что откопанный ими населенный пункт играл значительнейшую роль в мировой цивилизации и библейской истории[130]. Пропавшие же города, пусть даже пару раз упомянутые в источниках, вроде бы не существуют, как вплоть до конца XIX в. «не существовали» шумеры.
Заменить библейскую историю древневосточной тоже не удастся никогда: культурное место Библии закреплено навечно, в том числе и тем, что она является первой непрерывной летописью истории человечества как событийной, так и духовной. И ее одной европейскому обществу хватало очень долго — после того как, благодаря Лютеру и его духовным наследникам, стали появляться переводы Священного Писания на разговорные языки, сколько было семей, в которых Библия была единственной книгой!
И не истощением ли, конечно же, мнимым, «библейской питательности» можно объяснить жадный интерес к Древнему Востоку, появившийся в XIX в., или, точнее, не тем ли, что европейцам стало казаться, что за Библией должно быть что-то еще?[131] Странный контраст: многие (если не все) крупнейшие востоковеды были верующими людьми (как христианами, так и иудеями), но этого отнюдь нельзя сказать о том обществе, в котором они жили. Больше того, кажется, что западная цивилизация последних полутора веков инстинктивно пыталась с помощью новоприобретенных знаний рационализовать Библию, утвердить ее, с тем чтобы подкрепить или опровергнуть свою пошатнувшуюся веру? Ведь именно в те годы образованный европейский средний класс (за ним российский и позже, уже на наших глазах, — американский) постепенно переставал ходить в церковь или, по крайней мере, начал относиться к подобным посещениям, как к ничему не обязывающему ритуалу[132].
Несмотря на поостывший со временем интерес широких слоев общества (выяснилось, что месопотамские сказания не способны ни подтвердить Библию, ни ее опровергнуть), шумерская легенда на наших глазах мало-помалу приобретает интеллектуальный вес и становится частью устной истории — стандартного набора принятых обществом сведений. Иначе говоря, люди, учившиеся в средней школе, уже неплохо осведомлены о том, что до Вавилона, Египта, и тем более до Рима и Греции, существовала непонятно откуда пришедшая и полностью растворившаяся в потомках цивилизация.
Что питает, пусть умеренный, но все-таки достаточный интерес людей XXI в. к шумерам? Еще одна свойственная человеку интеллектуальная страсть — поиск первопричины, первоначала, зародыша, яйца, исходной и отправной точки. Человека интересует рождение его цивилизации, момент исторического времени, который он никогда не сможет уловить, но который хотел бы чуть лучше понять, ибо любое рождение есть чудо, а не чуда ли алчем мы всегда и во всем? Не его ли желаем узреть, не к нему ли прикоснуться? Шумеры занимают нас, потому что они были первыми. Первыми создали городскую культуру, ирригационную систему, изобрели многие орудия труда и материалы для их приготовления, приручили домашних животных, разработали письменность и использовали ее для кодификации правовых и религиозных норм, запротоколировали движения звезд и систематизировали биохимические познания, позволявшие варить 16 сортов пива. Шумеры были первыми во всем. Это — почти чудо и этого вполне достаточно для легенды.
И тут возникает интереснейший вопрос: а почему шумеры? Отвечают, что почва Месопотамии была отнюдь не самой удобной для обработки. Поэтому пришлось все делать сообща: осушать болота и рыть каналы, отводя их от Евфрата и его притоков. Чуть позже это привело к невиданным доселе урожаям, излишкам пищи, прибавочному продукту, его учету и охране, возникновению огороженных поселений, в общем, к той самой цивилизации, которую мы так любим. Любопытная закономерность, подмеченная в этой связи многими: для прогресса необходимо преодоление трудностей, точнее, их существование. Не каких-то невозможных рвов с оврагами и колючей проволокой, а серьезных, стимулирующих мозговую и социальную деятельность препятствий. Но не означает ли это, что шумеры пришли на «неудобную» землю не по своей воле? Не были ли они не просто переселенцами, а изгнанниками, первым племенем удачливых мигрантов? Добавим, что в дальнейшем не раз новую, необыкновенную цивилизацию или культуру создавали именно переселенцы, а иногда и изгнанники — но сколько было и будет племен неудачливых, совсем не по своей вине не успевших ничего создать, а просто исчезнувших или уничтоженных!
Упоминавшаяся в предыдущей главе шумерская легенда об Энменкаре содержит интересную сюжетную линию: оказывается, богиня Инанна переселилась из находившейся где-то далеко на востоке (и не идентифицированной учеными) Аратты в достославный Урук и перенесла на него свое покровительство. Нет ли здесь зашифрованного (и уже довольно слабого) воспоминания о миграции шумеров в Междуречье с далеких восточных гор и гордого утверждения того, что «черноголовые» живут теперь лучше, чем те, на востоке?
Уже говорилось, что пересеченный ландшафт древнего Междуречья приводил к развитию отдельно стоявших и самодостаточных городов, перераставших в государства. Находились они даже по тем временам неподалеку друг от друга и часто взаимодействовали всеми возможными способами — от торговли до войны. Культура при этом у них была общая, и конкурировавшие между собой храмы часто ставились одним и тем же богам. Из истории III тыс. до н.э. видно, что очень редко эти небольшие царства сливались в единое имперское целое — хотя то тот, то другой город занимал лидирующее положение, рос, богател и навязывал свои условия соседям. Но соседи не дремали и ждали своего часа. И стоило одному городу пасть, как другой тут же занимал его место, почти немедленно принимая у поверженного историческую эстафету[133].
Не напоминает ли это сообщество близких по духу и культуре, но все же независимых друг от друга государств Западную Европу Среднего и Нового времени?[134] Так же разделенную природой на множество родственных и полуродственных наций, ставших мотором человечества на протяжении нескольких последних веков. Шумер второй половины III тысячелетия до н.э. — не сходен ли он с бурлящим европейским котлом XV–XVIII вв.? Неужели человеку для прогресса обязательно преодолевать трудности? И верно ли обратное — не деградирует ли он в мире всеобщего довольства и благоденствия?[135]