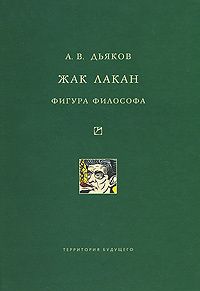В настоящее время общепризнано, что возвратившись с медосбора в улей, пчела сообщает своим товаркам о близости или отдаленности добычи, исполняя один из двух определенных видов танца.
Второй из них особенно замечателен, ибо плоскость в которой пчела описывает восьмерку (почему танец этот и назвали waggingdапсe), и частота этих фигур в единицу времени точно указывают, во-первых, направление на добычу по отношению к солнечному склонению (которое пчелы благодаря своей чувствительности к поляризованному свету легко определят в любую погоду) и, во-вторых, расстояние до нее в пределах нескольких километров. И на сообщение это другие пчелы немедленно реагируют, направляясь в указанное таким образом место.
Десяток лет терпеливых наблюдений понадобилось Карлу фон Фришу, чтобы расшифровать код этого сообщения — ведь речь идет именно о коде, т. е. о системе сигнализации, которую лишь родовой ее характер мешает рассматривать как произвольную.
Но становится ли он от этого языком? Нам представляется, что отличает его от языка как раз жесткая корреляция его знаков с той реальностью, которую они обозначают. Ведь знаки языка приобретают значение лишь по отношению друг к другу, в лексическом распределении семантем, равно как и в позиционном, даже флексионном, использовании морфем, что резко отличает их от задействованного в данном случае жестко фиксированного кода. В свете этого открытия можно по достоинству оценить разнообразие человеческих языков.
К тому же сообщение данного типа, определяя действия члена группы, никогда не передается им далее. Это значит, что оно остается привязанным к функции передачи действия, от которой ни один субъект действия не отделяет его в качестве символа коммуникации самой по себе [32].
Форма, в которой изъясняется язык, сама по себе служит определением субъективности. Он говорит: «Ты пойдешь сюда, а когда увидишь вот это, свернешь вон туда». Другими словами, он ссылается на дискурс другого. В этом качестве языка он облечен высшей функцией речи, поскольку, загружая адресата некой новой реальностью, речь обязывает и своего автора; так, например, говоря: «Ты моя жена», субъект связывает себя узами брачного союза в качестве супруга.
Такова по существу исходная форма человеческой речи, и любая наша речь не столько сближается с этой формой, сколько удаляется от нее.
Отсюда парадокс, который один из наиболее проницательных наших слушателей счел возможным сформулировать как возражение, когда мы приступили к изложению своих взглядов на анализ как процесс диалектический, и который звучал следующим образом: выходит, что человеческий язык создает ситуацию общения, в которой передающий получает от принимающего свое собственное сообщение в обращенной форме. Формулу эту нам оставалось лишь позаимствовать из уст возражавшего, поскольку в ней легко узнавался отпечаток нашей собственной мысли, заключавшейся в том, что речь всегда субъективно включает в себя ответ, что фраза «Ты не искал бы меня, если бы меня уже не нашел» эту истину лишь окончательно удостоверяет, и что именно поэтому в отказе параноика от признания то, в чем он не может сознаться, возникает, как носящее характер преследования «интерпретация», именно в форме негативной вербализации.
И когда вы радуетесь, встретив кого нибудь, кто говорит на том же языке, что и вы, вы радуетесь не тому, что встретились с ним внутри общего дискурса, а тому, что связаны с ним какой то особой, носящий частный характер.
Таким образом становится видна антиномия, внутренне присущая отношениям речи и языка. По мере того, как язык становится все более функциональным, он делается непригодным для речи, получив же характер слишком частный, он утрачивает свою языковую функцию.
Известно, что в традициях первобытных обществ использовались секретные имена, с которыми субъект идентифицировал свою личность или своих богов настолько тесно, что открыть имя значило погубить самого себя или предать их. Судя по признаниям субъектов анализа, да и по собственным воспоминаниям, дети не редко и сейчас спонтанно используют имя аналогичным образом.
В конечном счете именно степень усвоенной языком итерсубъективности, которая получает свое выражение в «мы», служит в нем мерой его ценности в качестве речи.
Рассматривая обратную сторону этой зависимости, отметим, что чем более служебные функции языка нейтрализуются, приближаясь к чисто информационным, тем более ему вменяется избыточность. Это понятие избыточности в языке возникло в результате исследований, залогом добросовестности которых являлась огромная в них заинтересованность речь шла о проблеме экономной передачи информации на большие расстояния и, в частности, о возможности передачи нескольких переговоров по одному телефонному проводу, в результате было констатировано, что значительная часть фонетического материала для реализации фактически требуемой коммуникации избыточна.
Для нас это в высшей степени поучительно [33], поскольку то самое, что в информации является избыточным, в речи выполняет функцию резонанса.
Ибо функция языка не информировать, а вызывать представления.
То, что я ищу в речи — это ответ другого. То, что конституирует меня как субъекта — это мой вопрос. Чтобы получить признание от другого, я говорю о том, что было, лишь ввиду того, что будет.
Чтобы найти его, я называю его по имени, которое отвечая мне, он должен либо принять, либо отвергнуть.
В языке я идентифицирую себя, но лишь для того чтобы затеряться в нем как объект. В моей истории реализуется не прошедшее время, выражающее то, что было, ибо его уже нет, и даже не перфект, выражающий присутствие того, что было, в том, что я есть сейчас, а скорее предшествующее будущее: то, чем я буду в прошлом для того, чем я теперь становлюсь.
Если я встану сейчас перед лицом другого, чтобы обратиться к нему с вопросом, ни одна сколь угодно сложная кибернетическая система не сможет превратить то, что является ответом, в реакцию. Определение ответа в качестве второго звена цепи стимул-ответ представляет собой лишь метафору, которая поначалу приписывает животному субъективность, а затем сама же исключает ее, сводя к чисто физической схеме. Это, пользуясь нашим старым сравнением, все равно, что фокус с кроликом, которого достают из шляпы, куда предварительно посадили. Но реакция — это вовсе не ответ.
Если, при нажатии мною кнопки выключателя зажигается свет, то ответом это является исключительно постольку, поскольку на лицо моежелание. Если для того же самого мне приходится опробовать целую систему реле, устройство которой мне неизвестно, вопрос существует лишь постольку, поскольку налицо мои ожидания как только я разберусь в системе достаточно, чтобы свободно ей манипулировать, никакого вопроса просто не станет.
Но если, говоря с кем-то, я обращаюсь к нему по какому-то определенному имени, я вменяю ему тем самым субъективную функцию, которую, отвечая мне, он обязательно возьмет на себя — хотя бы для того, чтобы от нее отречься.
С этогомомента проясняется решающая функция моего собственного ответа, состоящая не только, как утверждают, в том, чтобы быть воспринятым субъектом как одобрение или неприятие егодискурса, а в том, чтобы признать или упразднить в качестве субъекта его самого. Именно в этом и заключается ответственность аналитика в каждом случае его речевого вмешательства.
Поэтому проблема терапевтических эффектов неточной интерпретации, поставленная в замечательной статье Эдварда Гловера [34], привела к выводам, в которых вопрос точности отступает уже на второй план. Выводы эти заключаются в том, что всякое речевое вмешательство не только воспринимается субъектом в соответствии с его структурой, но и принимает в нем обусловленную своей формой структрообразующую функцию, так что неаналитические средства психотерапии, вплоть до обычных медицинских «рецептов», суть не что иное, как вмешательства, представляющие собой системы навязчивого внушения, истерические внушения типа фобии, или даже системы поддержки, построенные на мотивах преследования, причем характер каждой из них определяется тем, какую санкцию получает в том или ином случае непризнание субъектом его собственной реальности.
Речь является даром языка, а язык вовсе не есть нечто нематериальное. Это тонкое тело, но все же тело. Слова включены во все пленяющие субъекта телесные образы, они могут сделать истеричного субъекта «беременным», идентифицироваться с объектом penis-neid’a представлять мочевую струю уретрального честолюбия, или удерживаемые экскременты жадного наслаждения. Более того, слова могут сами претерпевать символические увечья и совершать воображаемые действия, субъектом которых является пациент. Так приходит на памятьWespe (оса), которая путем кастрации-отсечения начального W превратилась в S.P. - инициалы Человека с Волками; превратилась в момент осознания им символического наказания, которому он подвергся со стороны Груши, осы.