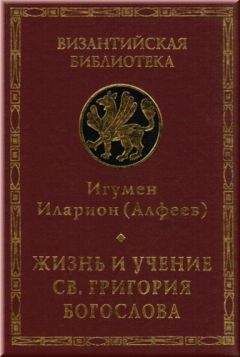Мера письма — необходимость: не надо ни удлинять его, если предметов немного, ни укорачивать, если предметов много… Вот, что знаю о длине письма; что же касается ясности, то известно, что надо, по возможности, избегать книжного слога и приближаться к разговорному… Третья принадлежность писем — приятность. Ее же соблюдем, если будем писать не совсем сухо, не без изящества, не без прикрас, и, как говорится, не без косметики и не обстрижено, то есть не без мыслей, пословиц и изречений, а также шуток и загадок, ибо всем этим подслащается письмо. Однако, не будем пользоваться этим сверх меры: когда ничего этого нет, письмо грубо, а когда этого слишком много, письмо напыщено. Все это должно использоваться в такой же мере, в какой — красные нити в тканях… Вот что касательно писем посылаю тебе в письме.[232]
Никовул был, надо полагать, благодарным учеником: он не только усваивал уроки Григория, но и, по его заданию, занимался подготовкой коллекции его писем к публикации.[233]
К позднему периоду жизни Григория относятся его автобиографические поэмы, стихотворения на богословские и нравственные темы, а также многочисленные стихотворения дидактического характера. [234] В числе последних — поэтические переложения библейских и евангельских эпизодов, притч и изречений Иисуса Христа: используя классические формы, Григорий наполнял их христианским содержанием. Арианзский отшельник задался целью создать своего рода компендиум христианской учебной литературы для юношества, которая могла бы заменить собою в качестве образцов для изучения и подражания произведения классиков языческой античности. [235] Об этой цели своего творчества говорит сам Григорий, когда перечисляет причины, побуждающие его писать стихи:
Во–первых, я хотел, трудясь для других,
Тем самым связать собственную неумеренность,[236]
Чтобы, хотя и писать, но немного,
Заботясь о мере. [237] Во–вторых, юношам
И, конечно, всем, кто любит словесность,
Хотел я, словно некое приятное лекарство,
Дать нечто привлекательное для убеждения к полезному,
Чтобы искусством подсластить горечь заповедей…
В третьих… не хочу, чтобы в словесности
Преимущество перед нами имели чужие…
В–четвертых, изнуряемый болезнью,
Я обретал радость в стихах, как старый лебедь,
Который говорит сам с собою и хлопает крыльями,
Воспевая не песнь плача, но песнь исхода.[238]
Автобиографические стихи позднего периода приоткрывают перед нами внутренний мир Григория в годы его старости. Он много думает о смысле жизни и о смысле страданий. Как и прежде, он любит предаваться размышлениям на лоне природы:
Вчера, сокрушенный своими скорбями, сидел я вдали от людей
В тенистой роще, и скорбел душой.
Ибо люблю такое лекарство в страданиях,
Охотно беседуя сам со своей душой.
Ветерки шептали вместе с поющими птицами,
Навевая сон с древесных ветвей,
Особенно тому, кто изнемог душой. А с деревьев
Звонкие кузнечики, любимцы солнца,
Оглашали своим треском весь лес.
Рядом была прохладная вода, которая омывала мои ноги…
Я же, увлекаемый парением ума,
Наблюдал в себе такую борьбу мыслей.
Кем я был? Кто я есмь? Кем я буду? Не знаю этого ни я,
Ни тот, кто превзошел меня мудростью…
Я есмь. Но скажи, что это значит? Что‑то от меня уже в прошлом,
Чем‑то я являюсь сейчас, а чем‑то буду, если только буду…
Говорят, что есть страна без зверей, как некогда Крит,
И есть страна, где не знают холодных снегов;
Но из смертных никто никогда еще не мог похвалиться тем,
Что, не испытав тяжких бедствий жизни, перешел отсюда.
Немощь, нищета, рождение, смерть, вражда, злые люди -
Эти звери на суше и на море — все скорби: такова жизнь!
И как видел я много несчастий, ничем не подслащенных,
Так не видел ни одного блага, которое было бы полностью
Лишено скорби — с тех пор, как к горькому наказанию
Приговорило меня пагубное вкушение и зависть противника.[239]
В поздних стихах Григория преобладают пессимистические настроения. [240] Он часто вспоминает о прежних обидах, жалуется на одиночество и болезни, говорит о старости и богооставленности. Нередко слышна в его словах неудовлетворенность сделанным, опасение за то, что останется незавершенным труд его жизни, что некому будет отредактировать и подготовить к изданию его сочинения:
…Я плачу о том, что отвернулось от меня животворное око
Великого Христа, Который когда‑то внимательно следил за мною,
Готовил меня к славе еще во чреве чистой матери моей,
Избавлял от холодного моря и от страстей.
Плачу о том, что потерял я бразды правления богомудрым народом:
Хотя и не сам бросил их, однако не держу их в руках.
Ибо этот народ прежде радовался моим речам,
Когда благодаря моему языку озаряло его тройственное сияние.
А теперь.., прильнув слухом к языку моему,
Народ жаждет источника, который раньше тек для многих,
Но он не дает ему и малой капли.
Другие источают сладкий поток, [241] но слушатели
Скорбят, ибо лишены слова своего отца.
Где мои всенощные бдения, во время которых незыблемо
Утверждал я свои ноги, как одушевленный камень,
Или один беседуя со Христом, или вместе с народом
Наслаждаясь священными песнями, исполняемыми антифонно?
Где сладкая боль в утомленных коленах, когда
Проливал я горячие слезы и собирал помраченный ум?
Где руки, кормившие бедных, служившие больным?
До чего доходит истощение обессилевших членов?
Больше не воздеваю рук перед чистыми жертвами,
Чтобы приобщаться страданиям великого Христа.
Больше не устраиваю празднеств в честь победоносных мучеников,
Не чествую похвальными словами драгоценную их кровь.
На книгах моих плесень, речи недокончены;
Какой человек будет столь дружелюбен, чтобы довести их до конца?
Все умерло у еще живого. Жизнь моя едва теплится:
Она слабее, чем у корабля, разваливающегося по швам.[242]
Мысль о скоротечности и суетности человеческой жизни — лейтмотив поздней поэзии Григория. Жизнь человека сравнивается с театральной пьесой, [243] с непрестанно вращающимся колесом, [244] волейбольным мячом, [245] с игрой в шашки. [246] Все меньше остается в распоряжении Григория благ и радостей земной жизни; все больше ум его занят мыслью о предстоящей кончине. Григорий говорит о себе как об одиноком страннике, лишившемся родителей и родины и ожидающем скорой смерти. [247] Он пресыщен жизнью и думает о мире ином. [248] Чувствуя приближение последнего часа, он заповедует своим потомкам не забывать о конце земного странствия и о Страшном Суде:
Последний подвиг жизни близок; несчастное плавание кончено;
Уже и наказание вижу за ненавистные злые дела,
Мрачный тартат, пламя огня, глубокую ночь,
Позор того, что сейчас сокрыто, а тогда будет изобличено…
Много страдал я, и мысль объемлется страхом: не начали ли
Преследовать меня страшные весы правосудия Твоего, О Царь?
Пусть сам я понесу свой жребий, перейдя отсюда…
Но вам, будущим поколениям, заповедую: нет пользы
В настоящей жизни, потому что у жизни есть конец![249]
Григорий умер в возрасте около 60 лет. Перед смертью он позаботился о том, чтобы его имущество не пропало, и составил Завещание. [250] Нескольких своих рабов он освободил еще при жизни; других — посмертно, впрочем, надо полагать, далеко не всех. [251] Он позаботился также и о том, чтобы его гробница не осталась без соответствующей надписи, и составил несколько эпитафий самому себе. Вот одна из них:
С младенчества призывал меня Бог ночными видениями.
Я достиг пределов мудрости. Плоть и сердце
Очистил я Словом. Нагим бежал я из пламени мира сего,
Сделавшись Аароном для отца моего Григория.[252]
***
Жизнь Григория Богослова никак не назовешь счастливой. Скорее она представляет собой сплошную цепь бедствий, во всяком случае если говорить о времени после его священнической хиротонии. Церковная карьера Григория складывалась на редкость неудачно: он был рукоположен на несуществующую кафедру, служил в чужой епархии и, взойдя на патриарший престол, был в скором времени смещен.
Величие Григория раскрывается не столько из внешних обстоятельств его жизни, сколько из его внутреннего опыта, который запечатлен на страницах его произведений. Несмотря на бурную жизнь, полную внешних потрясений, тревог, неудач и бедствий, он умел сохранять живую внутреннюю связь с Богом, имел глубокий мистический опыт. Он, бесспорно, был одним из самых великих богословов, каких когда‑либо знала христианская Церковь. О Григории как духовном писателе, как богослове, философе и мистике пойдет речь в следующих главах нашей книги.