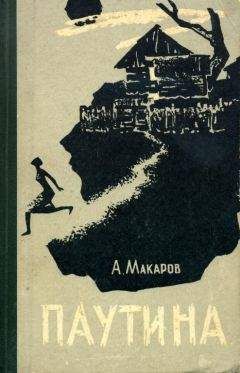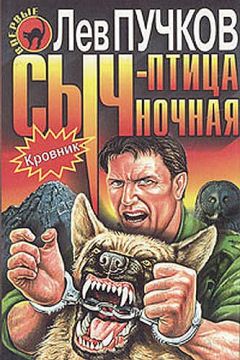Минодора знала от отца, что Гурий сочиняет «святые» письма и по двадцать верст за ночь бегает то на разъезд, то на станцию, чтобы рассовать «послания пророка» по военным вагонам, однако ответила уклончиво:
— Не видала.
И на это были свои причины.
Представив ей Гурия как весьма нужного человека, пресвитер Конон наказал лишь хранить и беречь его, не ни слова не промолвил о том, чтобы следить за ним. Поэтому-то Минодора не ввязывалась ни во что, чем занимался Гурий в обители или за ее пределами: если он превозносил баптистов или хлыстов, значит, дело Платониды оспорить его; если диктовал Прохору Петровичу «письма пророка Иеремии» и разносил их, значит, такова воля пресвитера; выходит, роль странноприимицы здесь наблюдательная. Она лишь иногда советовала, когда кому именно из колхозников и какими путями подбросить «святое» письмо, и неизменно упрашивала Гурия взять этот труд на себя, потому что отца все-таки жалела, а Калистрата считала бестолочью.
Собеседницы проговорили до полуночи. Они еще поспорили о «святом послухе», причем Минодора повернула дело так, что Платониде оставалось только согласиться подавать пример трудолюбия — вязать чулки и варежки — и блюсти порядок на внутренних работах. Однако не уступила и Платонида, потребовав себе хозяйского питания, разумеется, втайне от обители. Странноприимице пришлось согласиться. Они по-дружески договорились о встрече пресвитера, которого ожидали со дня на день, не поскупились выделить ему щедрый подарок из своих доходов. Потом Минодора предложила обратить к своей общине одну «сильно надежную грешницу». Ею оказалась Ефросинья, не старая, но страстно богомольная вдова, очень работящая колхозница с соседнего хутора. Глаза проповедницы алчно вспыхнули.
— Только с этой ты не торопись, — предупредила странноприимица. — С месяцок надо понюхаться вокруг да около. Письмецо от Еремея ей по-бабьи напиши, а Неонилка подбросит.
— Твое слово закон, — проговорила Платонида, впадая снова в свой обычный тон. — А мне скажи, чем прогневила Христа грешница Ефросинья?
Минодора перечислила:
— В церковь ходит, с попами дружит, в колхозе робит, а с председателем поругалась и бездушным бюрократом обозвала.
Платонида стукнула костылем и закивала.
— Избенка у ней на ладан дышит, — объяснила Минодора. — Летом в своей живет, а зимами постоялкой мается. Лесу да помощи выпрашивает, а председатель на солдаток указывает: вон, мол, какая орава за помощью прет…
— Сам Христос предает ее в руки мои!
— Только не торопись; зануздаешь да приведешь эту бабу — тысчу выложу!..
…Платонида отправилась к Ефросинье в тот самый день, когда Агапита и Капитолина стежили одеяло. Выпроводив Платониду через огород, Прохор Петрович наказал Варёнке следить за баней, вышел за ворота и сел на лавочку возле погреба. «Укостыляла каракатица, — с ненавистью подумал он о проповеднице. — Хвати, так на хутор, как в тот раз с Минодорой договаривались». Именно эта догадка и всколыхнула в нем воспоминания о печном душнике, тайной беседе между Минодорой и Платонидой и полученной затем от дочери головомойке, после конторой Прохор Петрович отказался ведать делами послуха, довольствуясь лишь бдением на улице и подслушиванием разговоров братии.
Но сегодня он оскандалился и на этом.
Вытащив напуганную Капитолиной Варёнку из-под амбара, Прохор Петрович снова ушел за ворота и присел на лавочку. Улица под горой была пустынна и тиха, словно все живое попряталось от палящего зноя и выжидающе примолкло. Старик сидел и дремал; он не сразу расслышал дикий крик Варёнки:
— Прошка, медведь во дворе!
Старик бросился во двор.
Там стоял и, скаля зубы, смеялся над забравшейся под крыльцо Варёнкой низкорослый старик-татарин в черной выхухолевой шапке. Узнав своего постоянного косаря, Прохор Петрович назначил ему срок начала работы, выпроводил и вздохнул: «Старею-с, заснул. Будет потасовка от Дорушки, если Варёнка проболтается!»
Размышляя, что лучше пообещать Варёнке за молчание, старик припомнил свой недавний конфуз с письмами. Однажды он вручил Гурию готовые «послания пророка Иеремии» и не заметил среди них объяснительную записку Минодоры правлению колхоза о проросшем на складе просе. Хорошо, что Гурий взглянул на бумажку, прежде чем сунул ее в чужое окно, и, не увидев на ней креста, снова спрятал ее в карман. Гурий не сказал об этом странноприимице, однако пожурил Прохора Петровича и запретил ему писать «святые» послания за дочерней конторкой. «Тот пожалел, — горестно думал старик, — а дура не пожалеет, за сладкое на все пойдет!»
Так оно и случилось.
— Куд-кудах, Минодорка!.. Баню теперь сама топи, — заявила Варёнка, как только кладовщица вернулась с работы: — Там полосатый живет и рюхат!
Коровину пришлось повиниться. Располыхавшаяся Минодора швырнула в лицо отца своего рыжего кота. Вытирая кровь на расцарапанном кошачьими когтями носу, старик попытался перевалить часть вины на Платониду.
— Это она-с, она опоганила баню, — бормотал он, указывая дрожащим пальцем на печной душник. — Она послала туда Капку с Агапиткой. Воля-с, воля дана ей, пучеглазой иродице!
— Платонидку! — выдохнула странноприимица.
Варёнка сломя голову кинулась в обитель.
Проповедница только сейчас вернулась от вдовы Ефросиньи; и по тому, как она сразу переоделась во все черное и удалилась в молельню, было понятно, что визит к очередной грешнице не удался. За последние годы подобных неудач становилось все больше, и у проповедницы выработалась особая привычка. Она одевалась в черный хитон, брала тяжелую лестовку из черных граненых бус литого стекла, уединялась в молельню и, встав на колени, пропевала с начала и до конца скорбную Давидову песнь «На реках вавилонских тамо седохом и плакахом».
— Эй, куд-кудах, старая ведьма! — крикнула дурочка, подражая своей хозяйке. — Айда к Минодорке! Чичас же, медведь полосатый; опоздаешь — дак увидишь чё будет!
Платонида с лестовкой в руке поднялась наверх. Спустя несколько минут к матери-странноприимице были призваны Неонила и Капитолина; Агапита не смогла подняться с постели.
Переживая горе своей новой подруги, Капитолина выглядела необыкновенно грустной. Озорной блеск ее серо-синих глаз заметно поблек, губы были скорбно поджаты, пышные волосы заплетены в короткую толстую косу. Но взглянув на Варёнку и вспомнив давешний ее переполох, девушка не смогла подавить улыбки.
— Ишь ты! — прошипела странноприимица, чувствуя, как выступает на лбу знакомая испарина. — Иш-ш-ш, она еще улыбится, она еще.. Ну-ка, мокрица, винись: что в бане делала?
— Ваше одеяло стежила…
Красивая и статная, в цветастом платье, Минодора сидела на стуле возле своей конторки, сложив на высокой груди полные белые руки. Голова ее вздрагивала, поблескивали шпильки в короне светло-бронзовых волос. На сундуке, скособочившись, сидела Платонида; под стать своему одеянию, она была мрачна и смотрела в пол; по складкам ее хитона изогнувшейся суставчатой змеей ниспадала стеклянная лестовка.
Напротив проповедницы, возле шкафа с посудой, стоял Коровин и не моргая глядел на дочь; он был похож на волка своим ощерившимся ртом и ощетинившимся серым бобриком, с капельками крови на носу. Держась за ключик, привязанный к поясу старика, слоено плача, беззвучно хихикала Варёнка. Поодаль от всех раболепно сутулилась и что-то шептала Неонила.
— Одеяло стежила, — скривив губы, повторила Минодора. — А еще что?
— Разговаривали.
— Разговаривали, так, так. Ну, а потом что?
— Варёнку напугала…
— Скоморошничала, — глухо перебила Платонида. — Беса тешила!
— Нет, не беса! Напугала, чтобы не подслушивала. У нас секретов нету. Калистратовой шубой напугала.
— А-а-а! — будто простонала странноприимица. — Калистра-а-атовой?!. Я тебе выверну Калистратову шубу, я т-тебе…
Минодора вскочила, рванулась к Капитолине, но остановилась, окинула всех диким взглядом, схватила за плечо Варёнку и пихнула ее на середину комнаты.
— Ты, пугало, дай этой… Постой, вот…
Она вырвала из рук Платониды лестовку.
— На!.. Бей по морде!.. А ты держи, — приказала странноприимица Неониле. — Лапы ей назад!.. Кому сказано?!
Капитолина побледнела и оглянулась на Неонилу.
— Уволь, матушка, — растерянно поклонилась старуха и прижала руки к груди. — Я не стану.
— Кто тебя кормит?!
— Сама ем, матушка, святым послухом питаюсь, покуда силушка есть.
— Рабы, да повинуются! — строго сказала проповедница.
— Уволь, Платонидушка, рученьки — пле́ти, ноженьки — кисельны. Я травинки-былинки не таптывала, а человека…
Коровин, поглаживая бородку, направился было к двери горницы, но вдруг обернулся и сзади бросился на Капитолину. Он заломил девушке руки, схватил за косу, всей тяжестью своего тела оттянул ее голову и прохрипел: