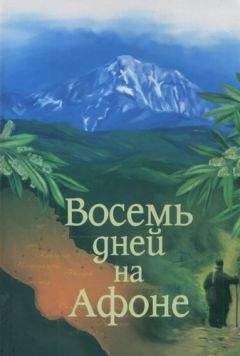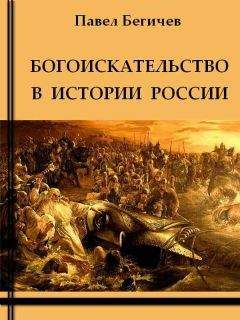— А мы — в протат, — ответил питерский.
На том и порешили. Больше в Карей нам делать было нечего. Разве что забавляли самой разнообразной расцветки и величины коты, которые в неимоверных количествах по-хозяйски сопровождали нас. Можно было подумать, что они живут в этом городе, а не люди. Из-за котов заспорили: по преданиям, доступ на Афон женскому полу запрещён, причём это касается абсолютно всей твари. Есть такая поговорка, что на Афоне и птичка гнезда не вьёт. Но откуда же столько кошек? То есть котов? Неужели все привозные? Санёк-питерский попытался отловить парочку экземпляров для научного изучения, но коты не давались.
— Оставь, — предложил Алексей Иванович, — пусть остаются как есть.
Сопровождаемые котами, мы обошли городок ещё раз, вышли к крутому спуску, с которого открывалось море, сфотографировались и так же не спеша пошли в Андреевский скит — до ужина оставалось два часа.
Посидели на лавочке в тени больших деревьев недалеко от скитских ворот и уже собирались войти, как показалось, что надпись над воротами — русская. Зрение у меня никудышное, очки же оставил в келье, и я, подтолкнув Алексея Ивановича, указал ему на надпись. Наконец мы нашли чем занять оставшееся время — текст над вратами разбирался коллективно. Где прочитали, а где домыслили, и выходило, что икона над воротами есть список с чудотворной иконы Божией Матери, явленной в Вятке. Воодушевлению Алексею Ивановича не было предела. По-моему, только хохлы могут потягаться с вятичами в национальном самомнении.
Алексей Иванович сделал широкий приглашающий жест, словно мы у него в гостях, и дальнейшее только укрепило его в этом чувстве. Возле восстанавливающегося храма стояло несколько старинных с зеленоватым отливом колоколов. Видно было, что колокола сняли на время ремонта. Алексей Иванович подошёл и стал читать написанное по ободу. Колокола оказались даром вятских купцов[38]!
— Вот! — сказал Алексей Иванович и скромно отошёл в сторону, давая нам возможность увидеть подтверждение того, что для него являлось неоспоримой истиной.
Мы, разумеется, стали разглядывать надпись на колоколах, как разглядывают в гостях фотографии из хозяйского альбома, а Алексей Иванович, как положено в таких случаях, комментировал:
— Вятские — это соль земли, без них вообще ничего не делается, они повсюду. Заметь, на подворье Пантелеимонова монастыря в Москве сторож — из Вятки, здесь, на Афоне, свидетельство исторической связи Афона с Вяткой, а завтра идём в Кутлумуш, где подвизается тоже вятский. Вятские — везде, их можно встретить в любом уголке мира.
Крыть было нечем. Только язвить.
— Эк вас разметало. Ладно евреи, а вы-то чем Бога прогневали?
Алексей Иванович поперхнулся, но ничего не ответил, вздохнул глубоко и скорбно, словно старик, уверенный, что молодое поколение обязательно должно быть хуже.
— На ужин пора, — сказал Санёк-питерский, ему тоже, видимо, было досадно, что никаких питерских следов на Афоне нам не попалось.
Между прочим, позже я узнал, что долгое время храм Андреевского скита оставался самым большим на Балканах[39]…
Ужин проходил в небольшом полуподвальном помещении. Вспомнился старый город, кафешки, в которые надо спускаться по тёмным искрошившимся ступенькам, но как же там уютно! Конечно, трапезная Андреевского скита — это не кафешка, длинные столы, но как на них всё радостно: и блестящая металлическая посуда, и лежащие горкой фрукты, и цветные салфетки; со стен смотрят святые, их суровые взгляды и тёмные лики удачно сочетаются с кирпичным цветом стен; за трапезой читалось поучение. То ли от того, что читалось оно на греческом языке, то ли сам текст выпал такой удачный, но воспринималось чтение как ласковая музыка, в которой ничего не понимаешь, но хочется, чтобы она длилась и длилась; а вот сами кушанья ни в какой кафешке не поешь! Такое — только на Афоне! Могу сказать только, что блюда напоминали овощной супчик и запеканку. Но их никак нельзя назвать «супчиком» и «запеканкой» — это слишком обыденно для тех чудесных блюд. Ещё была зелень, фрукты и графинчик с вином, к которому я, пройдя утреннее испытание, уверенно потянулся. Графинчик подавался из расчёта стаканчик на человека (пишу «стаканчик», чтобы чувствовалось отличие от монументальности русского слово «стакан»), а я и тот не дерзнул полнить. Лишь пригубил. Но не в этом де-ело…
Господи, да за что же нам такой праздник? Что мы к исходу дня принесли Тебе, что Ты нас так щедро одаряешь?! Мне не путники, а путанники, которые всё норовят сойти с путей Твоих. Сколько раз сегодня мы оставляли упование на Тебя, а сколько раз забывали благодарить, когда Ты исправлял и направлял нас! И вот Ты, Господи, привёл на этот пир… а мы? Что за одежда на нас, Господи?! Как смел я садиться за Твой стол так легко и просто, да ещё рассуждать: ступеньки, стены, потолок, кафешка… Прости, Господи, неразумного и неблагодарного, прости…
5Мне захотелось молиться. Это было чувство слёзной благодарности Терпящему моё лихоимство и несовершенство. И, слава Богу, почти сразу после трапезы началась служба.
Быстро темнело, из трапезной вышли уже в сумерках, потянуло прохладой. Зашли в кельи (оказалось, прибыла ещё одна группа: два батюшки и два мирянина из Москвы; батюшек поселили отдельно, а мирян — к нам третьими), потеплее оделись и направились в храм, располагающийся над главными воротами скита.
Совсем стало темно, и удивительное чувство возникло — словно мы на небе: то тут, то там вокруг нас мерцали и покачивались звёздочки. Я поднял голову: небо было на месте, но как звёзды отражаются здесь?
— Ты фонарик взял? — спросил Алексей Иванович.
Ах, да, что же я? Включил фонарик — и зажглась ещё одна звёздочка, и тоже влилась в общий порядок. Здесь он свой — все звёздочки, движутся к храму. А может, это общий порядок Вселенной? Ведь всё в мире — Бог. И вся Вселенная движется к Нему.
Вот и меня Господь сподобил — иду со всей Вселенной, покачиваю фонариком в такт шагам.
Перед входом в храм тёпленький свет лампады освещает лик Богородицы и я выключил фонарик. В небольшом притворе плотно, в несколько рядов — стасидии, словно вынесенная на время ремонта мебель, к удивлению, ряды стасидий обнаруживаются и в храме. Наверное, если бы я увидел заполненными стасидиями храм днём, это произвело неприятное впечатление пустующего театра, но сейчас, в полумраке, при жёлтом свете свечей всё воспринималось естественно. Вспомнилось есенинское «и как стражники замерли в нашем саду»[40], и представилось, как на рубеже веков так же плотно стояли здесь монахи. И сейчас это не стасидии, а памятники им, ушедшим. А может, души их по-прежнему здесь, ведь это их стасидии?
Храм стал обходить монах с забавной штуковиной, похожей на лампу Алладина, он потрясал ею, лампа разливалась весёлыми бубенчиками, а из горлышка растекался по храму дух благовоний[41]. Так у нас дьякон обходит храм с кадилом. Некоторые, кстати, подвешивают на кадило колокольчики, и получается такой же мелодичный звон. Только у нас дьякон кадилом движет мерно, словно отсчитывает время, а здесь монах движется быстро, словно добрый вестник старается быстрее оповестить всех: радуйтесь, радуйтесь, начинается служба Богу.
Монахи запели. Меня удивили восточные интонации, которые я привык слышать в турецких песнях, частенько звучащих в наших маршрутках. И то, что в песнях греческих монахов мне послышался турецкий шлягер, несколько покоробило, но тут же, с другой стороны, пришло: я неправильно слушаю мир, это не греческие песнопения произошли от турецкой попсы, а культура Византии отразилась в мусульманских напевах, а потом их выскоблили и заполняют выметенный[42] мир.
Я стал вслушиваться — мне хотелось полюбить Византию.
Сначала я пытался угадывать службу, улавливал знакомые слова «падре»[43], «кирие елейсон»[44], «агиос»[45], но скоро понял, что это вслушивание только отвлекает от молитвенного настроения, которое не хотелось терять, и я перестал вдумываться, и так хорошо стало: всё разом сложилось — и то, что звучало на греческом, и то, что было в душе — и без разделения языков звучало так чудесно и волнительно, что я радовался, узнавая своё и вместе с тем печалясь: о, Византия, почему я не слышал тебя раньше?!
Вдруг служба кончилась. Я никак не ожидал, что уже всё. Посмотрел на часы — прошло всего полтора часа, только начал влюбляться в Византию, а ответить ей не успел.
Тихое звёздное небо примирило. Какое вообще чудо жить на земле! Господи, а что же тогда там, у Тебя?
Когда вернулись в келью, ни о каком сне и речи быть не могло. Утренняя служба через восемь часов — для сна это казалось излишне много. Я предложил к вечернему правилу присовокупить какой-нибудь акафист. Алексей Иванович согласился, стали выбирать, какой, но тут пришёл сосед и, стесняясь, стал говорить, что он сейчас исповедовался у своего батюшки и теперь надо вычитывать каноны и последование, и вот он боится, что доставит нам неудобства. Как мы обрадовались — опять ничего решать не надо! Мы тут же вызвались читать каноны вместе.