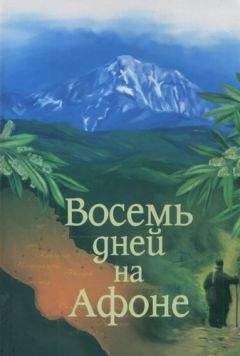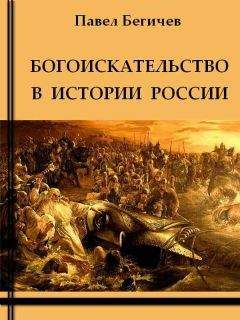Какое великое дело — совместная молитва! Да ещё на Афоне! Может быть, в этот раз не было того изумительного звука, как вчера в высокой молитвенной комнатке, но душа так легко откликалась на молитву! Хорошо, когда двое или трое…
После канонов и вечернего правила Алексей Иванович сказал:
— Дальше пусть сам, — и неопровержимо зевнул. Алексей Иванович постарше меня, и рюкзак у него тяжелее, и переживал он больше — намаялся человек, а готов был и до конца последование читать, но мне показалось, что неудобно будет, если я останусь читать, словно укор какой-то. Я согласился, попросив только, чтобы москвич читал вслух. Алексей Иванович вышел по своим делам, я расстелил кровать и лёг, и под мерное чтение не слышал уже, как вернулся Алексей Иванович, как москвич ещё перекладывал вещи, как, наконец, погасили свет…
1
Проснулся я бодрым, свежим и в то же время с чувством, что не ложился спать вовсе, так, вздремнул чуть-чуть…
Снова звёздочки-фонарики потекли к храму, снова мы вошли в храм, заполненный пустыми стасидиями, только в этот раз мне захотелось быть поближе к царским вратам, и я нарушил покой уставленных перед алтарём стасидий (в первом ряду занять место не дерзнул, а вот во второй пристроился), рядом со мной, через одно место, расположился монах — значит, можно и тут места занимать, успокоился я.
Всё складывалось хорошо.
Когда начали петь псалмы, я подумал, а почему бы мне не опереться на скамеечку в стасидии — смотрю, и монах, который рядом, тоже опёрся. Снова протяжно запели, бережно выводя каждую ноту. Это русская песня — долгий путь через степь и лес с приступами отчаянного веселья, а греческая — это лёгкое покачивание на волнах ласкового Эгейского моря.
Становилось светлее, передо мною возникли серые монахи, или это я уже мог различать их? Меня позвали, не голосом, а сам не знаю, как, но я откликнулся и пошёл за ним. Куда меня вели, зачем? Какая разница? Я чувствовал покой и никакого страха. Город какой… Белый город… Но древний и подзапущенный… И пустой… Только тени монахов впереди… Сомнение задело меня: откуда такой светлый город и вообще, что, собственно… ба! Да я в наглую сплю!
Ну, скажем, дремлю. Вот ведь, вроде чувствовал себя бодро, а укачало-таки на волнах. Это потому, что я улавливал только внешнюю сторону службы, но сам-то не молился.
Я оторвался от скамеечки и постарался вникнуть в службу. Снова стал узнавать слова, угадывать смысл песнопений и скоро догадался, что читают часы — неужели я и в самом деле выпал больше чем на пятнадцать минут?
Бодря и благоухая, пошёл монах с кадильницей, а затем из алтаря раздалось: «Благослови». Дальше всё было знакомо и захватила нарастающая волна, словно нарастающий ритм сертаки.
И вот уже выносят Чащу. И я, прожив эту Литургию и достигнув высшей её точки, хотел упасть на колени… но смог только положить руки на впереди стоящую стасидию… А те, кто стояли в стасидиях, расположенных вдоль стен, на колени встали. А монах, стоявший рядом, двинулся к причастию, и я признал в нём русского батюшку, скорее всего, это как раз один из московских, которые пришли в монастырь вечером. Ну вот, а я по нему сверял, когда можно присесть в стасидию. А батюшка, поди, на меня посматривал, так мы с ним всегда одновременно садились и вставали. Вот и наш сосед по келье причащается. Слава Богу.
Вышли из храма, когда купол и колокольня засияли небесно-розовым цветом. Было прохладно. Но розовый свет всё более светлел, отливаясь золотом, всё ближе сходил к нам, и ощутимое вхождение в новый день, как рождение в новую жизнь, было восхитительно.
Трапеза для работников и паломников проходила на этот раз отдельно от братии, в подвальном этаже архондарика. Выстроившись в небольшую очередь, подходили к кастрюлям с едой, накладывали, кто чего желал, для розлива был установлен автомат — в общем, столовая эконом-класса. Никто за трапезой не читает. Земным повеяло.
Нет, конечно, нельзя сказать, что, оставшись без видимого присутствия монахов, мы стали уж шибко вольно вести себя — за столами царило братское желание быть полезным, послужить, но какая-то расслабленность чувствовалась. Словно у нас вечер пятницы. А на самом-то деле — вторник, утро.
Поднялись в кельи. Алексей Иванович, уже не особо стесняясь, достал папиросы и ушёл, а я прилёг на кроватку и задремал, пригретый заглянувшим в окошко солнышком.
Первый раз я пожалел, что Алексей Иванович так быстро курит. Нет, его, конечно, тоже понять можно: у меня, видимо, было такое счастливое лицо, что это не могло не возмутить. Ну, да, весь мир чем-то занимается, суетится, укладывается, а я тут, понимаете ли, блаженствую.
— О! Развалился тут! (Хотя я лежал тихонечко, молитвенно сложив ручки на груди.) Давай вставай, нас выселяют. (Господи, как грубо.)
— Куда нам торопиться? — попытался сопротивляться я. — До Кутлумуша-то минут двадцать…
— Сколько бы ни было — расчётное время.
Хоть слово «выселяют» и резковатое, но, в общем-то, верное, нас и в самом деле попросили: надо прибирать комнаты, приготовить их для новых гостей, а нам — в путь, в каждом монастыре можно переночевать только одну ночь.
Монастырский дворик окатил бодростью и светом. Мы нашли лавочку под раскидистым деревом и стали ждать Саньков.
На леса, обступившие храм, полезли строители, несколько человек пронесли большую кастрюлю, показался молодой иеромонах, более похожий на колхозного учётчика, важного и для сельского хозяйства обременительного.
— Пойдём благословимся, — предложил Алексей Иванович.
Мы подошли, иеромонах благословил, улыбнулся и что-то пожелал нам по-гречески. Мы тоже — что-то по-русски. Иеромонах ещё раз перекрестил нас и двинулся было своей дорогой, но тут Алексей Иванович возопил:
— Илеос![46]
Даже я вздрогнул, не говоря уж о монахе — тот посмотрел в нашу сторону с опаской. А Алексей Иванович, перебивая русское причитание исковерканными греческими словами, схватился за монаха.
— Нам бы маслица, батюшка, отче, падре, илеос, илеос.
— А, елей, — догадался монах.
— Ее! Ее, — вырвалось у Алексея Ивановича из глубин пострадавшего от общей американизации сознания.
«Я, я, натюрлих», — мысленно поддержал я товарища.
Иеромонах немного успокоился, снова улыбнулся и показал на храм над воротами скита. Мы закивали головами, понятно, что масло в храме. Иеромонах, оставляя вытянутой в сторону храма руку, махнул ею пару раз, мол, ну и идите туда, но мы строго держались батюшки. Тот наконец опустил руку, вздохнул, улыбнулся и пожалел нас. А как быть с неразумными детьми? Он повернул к храму, мы — за ним. Когда поднялись на второй этаж, он оставил нас в притворе — в самом храме шла уборка — и ушёл.
— Просить надо, — зашептал Алексей Иванович. — Всегда просить надо. Это мне духовник говорил. Бес учил: никогда ничего не проси. Это — гордыня.
Минуты через две иеромонах вышел и протянул нам два маленьких пузырёчка. Как мы его благодарили! Он тоже расчувствовался, что-то всё желал нам и несколько раз благословил. Из храма мы вышли счастливые донельзя.
— Вот теперь можно и в путь! — удовлетворённо изрёк Алексей Иванович.
Возле лавочки мы обрели не только оставленные рюкзаки, но и Саньков, и не преминули похвастаться пузырьками. Лучше бы мы этого не делали — вид у них стал… мы и причастились, и маслица добыли… Чувство незаслуженных наград перевесило чувство обладания, и мы указали, где и как можно получить маслице. Саньки убежали, а мы остались опять под деревом. Солнышко припекало всё больше и больше. Благодать! Появились четверо москвичей.
— Идите быстрее в храм, — наставительно сказал Алексей Иванович. — Там батюшка масло раздаёт. Скажете: «Илеос».
«Если что, скажите, от нас», — я не произнёс — подумал.
Только ушли москвичи, появились довольные Саньки, а я представил иеромонаха, когда он увидит очередную делегацию с прошением о «илеосе».
— Ну что, пошли?
— Пошли!
— Слава Богу!
Мы вышли из ворот Андреевского скита, перекрестились, земно поклонились так чудесно принявшей нас обители и ступили на дорогу в Карею.
2На дорожном просторе новое открытие ждало нас — мы увидели Гору. Только на третий день Господь открыл нам её.
Чёткий треугольник, словно нимб с древних икон, белоснежно сиял перед нами. Его вершина истончалась в небе, и мы настолько ясно видели её, что, казалось, различали все складочки, все тропки, все камешки и трещинки на них…
Мы замерли… Гора поражала своим величием, манила и вместе с тем казалась недостижимой. В то же время мы точно знали, что на неё восходят паломники, там стоит крест и есть келейка, где можно переночевать[47]… Но неужели это возможно?
— Вот куда идти-то надо… — произнёс Алексей Иванович.