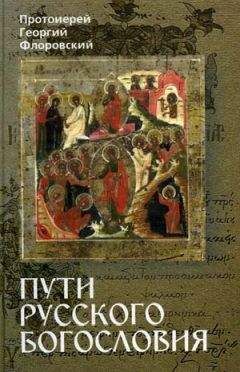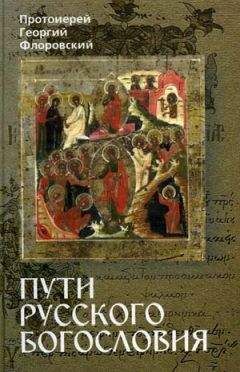Религиозное отрицание не означает равнодушия. Это скорее показатель сдавленного беспокойства. И совсем не так был внезапен уже в начале Семидесятых годов этот бурный взрыв религиозно-утопического энтузиазма, этот исход или «хождение в народ»,— «в Фиваиду или, по меньшей мере, в монтанистическую Фригию» (уподобление г. П. Федотова). «То была подлинная драма растущей и выпрямляющейся души, то были муки рождения больших дум и тревожных запросов сердца», так рассказывает один из участников этого хилиастического похода. «Я видел не раз, как молодежь, отправлявшаяся уже в народ, читала Евангелие и горько рыдала над ним. Чего она искала в Евангелии?.. Какия струны ее души были так задеты «благой вестью?.». Крест и фригийская шапка!.. Но это было, было!.. У всех почти находим Евангелие» (О. В. Аптекман)
И сам автор этих воспоминаний принял крещение уже во время своих «хождений», — как сам он говорит, «по любви ко Христу» (срв. его рассказ о пребывании в с. Буригах, в госпитале кн. Дондуковой-Корсаковой)…
И как ни далека была и бывала тогдашняя религиозность от подлинной «Благой Вести», искренность чувства и действительность религиозной потребности вне всякого сомнения. «Это взрыв долго копившейся, сжатой под сильным давлением религиозной энергии… Перед нами безумие религиозного голода, не утоленного целые века», хорошо говорит об этом г. П. Федотов… И важно отметить, то было искание именно религии… Только «созданием новой религии» можно было закрепить этот припадочный энтузиазм и обратить его „в постоянное и неискоренимое чувство…»
Пора наивного материализма 60-х годов уже кончилась, и в Семидесятых уже возвращались в историю… История переживалась тогда религиозно. «С разных сторон мне приходилось слышать такого рода суждения: мир утопает во зле и неправде; чтобы спасти его, недостаточна наука, бессильна философия, только религия — религия сердца — может дать человечеству счастье» (Аптекман)…
Это бывала часто религия очень странная, «религия братства», религиозное народничество, эта странная полувера Шатова, иногда и позитивная «религия человечества», и даже «спиритуализм» (т. е. спиритизм). И именно в качестве некоего катихизиса была написана «Азбука социальных наук» Флеровского-Берви [58] (1871), одна из самых характерных и популярных книг той эпохи. «Я стремился создать религию братства!…»
И всегда был силен религиозный пыл и жажда, хотя бы то и была одна только «душевность без духовности» (по удачному выражению Богучарского). И это не была одна только беспредметная иллюзия и прелесть, и не одно только кружение помыслов или кипение чувств. Жажда была во всяком случае, подлинной и искренней, хотя бы и утолялась она чаще суррогатами и самовнушением, чем действительной пищей и питием…
Особо нужно упомянуть о тогдашнем влечении к расколу в радикальных кругах (срв. в частности пребывание А. Михайлова у «спасовцев» под Саратовым). В религиозных движениях стараются открыть их социальную основу. Но не были ли, напротив, социалистические движения направляемы религиозным инстинктом, только слепым?! «Через 200 лет мученикам двуперстия откликаются мученики социализма» (Федотов)…
Очень характерна проповедь А. К. Маликова (умер уже в 1904 г,), основателя секты т. наз. «богочеловеков», проповедника «непротивления» до Толстого, — одно время он имел большое влияние на радикальную молодежь (срв. кружок т. наз. «чайковцев»), сумел многих увлечь с собой в Соединенные Штаты там строить религиозную коммуну. Кажется, именно Маликов и самого Толстого впервые навел на мысль о непротивлении. Но там, где у Толстого мы находим скорее доводы от здравого смысла, у Маликова звучал всегда голос смятенного сердца. То была проповедь какой-то гуманистической религии, почти апофеоз человека, — «все мы богочеловеки». Это можно было протолковать и от Пьера Леру, [59] и от Фейербаха. Но всего важнее в этой проповеди было непосредственно движение чувства, экзальтация взволнованной совести. Коммуна в Америке не удалась, конечно. Сам Маликов впоследствии вернулся в Церковь, и в полноте церковности нашел разрешение своих тревожных исканий…
То была апокалиптическая полоса в истории русского чувства, эти «Семидесятые годы». И с основанием сравнивали тогдашнее «хождение в народ» с крестовым походом (срв. у Степняка-Кравчинского, в его «Подпольной России»). Психологически в эти годы традиции утопического социализма вновь оживают и обновляются. И в этом тогдашнем увлечении идеалом фаланстера или коммуны не трудно распознать подсознательную и заблудившуюся жажду соборности…
И даже — почти что монастырский пафос… Это был очень характерный симптом, показатель сердечной тревоги…
Религиозный смысл и характер тогдашнего русского кризиса был раскрыт и показан еще Достоевским (1821–1881). Личный опыт и художественное прозрение интимно смыкаются в его творчестве. Достоевский сумел назвать тайну своей современности, распознал тогда еще не высказанную религиозную тоску. «Порассказать только то, что мы все, русские, пережили в последние десять лет в нашем духовном развитии», так определял сам Достоевский заданиe задуманного им «огромного» романа «Атеизм». Достоевский старался осмыслить весь тогдашний русский опыт. Он был взволнован всем происходившим вокруг. Но это не было простое житейское любопытство. Достоевский видел и созерцал, как в сплетении житейских мелочей и обыденных событий свершается или решается последняя судьба человека. Он изучал человеческую личность не в ее «эмпирическом характере», не в игре видимых причин и следствий, но именно в ее «умопостигаемых», в ее хтонических глубинах, где смыкаются и размыкаются таинственные токи первобытия. Достоевский изучает человека в его проблематике, — иначе сказать, в его свободе, которой дано решать, избирать, отвергать и принимать, которой дано даже и сдаваться в плен или продаваться в рабство. Здесь важно подчеркнуть: ведь только через «проблематику» и становится свобода «предметной…»
В своих книгах Достоевский рассказывал не только о себе, и не только свой душевный опыт «объективировал» он в своих творческих образах, в своих «героях». У него был не один, но много героев. И каждый герой есть не только лик (или образ), но еще и голос…
Очень рано Достоевскому открылась таинственная антиномия человеческой свободы. Весь смысл и радость жизни для человека именно в его свободе, в волевой свободе, в этом «своеволии» человека. Даже смирение и покорность возможны лишь через «своеволие», через самоотречение. И, однако, не оборачивается ли слишком часто это «своеволие» человека в саморазрушение? Это — самая интимная тема у Достоевского. Он не только показывает трагическое столкновение и скрещивание свобод или своеволий, когда свобода оказывается насилием и тиранией для других. Он показывает и самое страшное, — саморазрушение свободы. Упорство в своем самоопределении и самоутверждении отрывает человека от преданий и от среды, — и тем самым его обессиливает. В беспочвенности Достоевский открывает духовную опасность. В одиночестве и обособлении угрожает разрыв с действительностью. «Скиталец» способен только мечтать, он не может выйти из мира призраков, в который роковым образом его своевольное воображение как-то магически обращает мир живой. Мечтатель становится «подпольным человеком», начинается жуткое разложение личности. Одинокая свобода оборачивается одержимостью, мечтатель в плену у своей мечты…
Достоевский видит и изображает этот мистический распад самодовлеющего дерзновения, вырождающегося в дерзость и даже в мистическое озорство. Показывает, как пустая свобода ввергает в рабство, — страстям или идеям. И кто покушается на чужую свободу, тот и сам погибает. В этом тайна Раскольникова, «тайна Наполеона…»
Но Достоевский не только показывает в образах эту диалектику идей-сил, как последнюю и интимную тему современной русской жизни. Он становится толкователем судеб того «случайного племени», каким была радикальная интеллигенция 60-х годов, эти тогдашние «нигилисты». И Достоевский хотел показать не столько внешний быт, сколько именно тайную судьбу этого «племени», свершавшуюся в тогдашних борениях и спорах… Одержимость мечтой еще опаснее, чем бытовая нелюдимость… И не были ли русские радикалы и нигилисты именно одержимы…
Свобода праведна только через любовь, но и любовь возможна только в свободе, — через любовь к свободе ближнего. Несвободная любовь вырождается неминуемо в страсть, оборачивается насилием для любимого, и роком для мнящего любить…
В этом ключ Достоевского к его синтезу…
С пугающей прозорливостью Достоевский изображал эту антиномическую диалектику несвободной любви. И ведь Beликий Инквизитор есть, прежде всего, именно жертва любви, несвободной любви к ближнему, не уважающей и не чтущей чужой свободы, свободы каждого единого из малых сих. Такая любовь в несвободе и через несвободу только выжигает воспаленное сердце, и сожигает мнимо любимых, — убивает их обманом и презрением. И не в этой ли антиномии один из фокусов трагедии в «Бесах…»