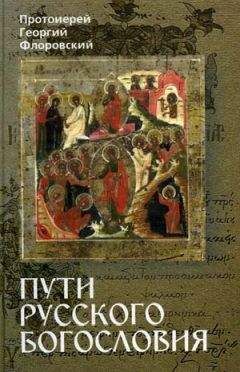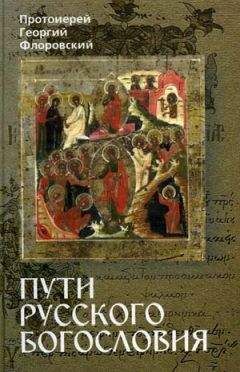В этом ключ Достоевского к его синтезу…
С пугающей прозорливостью Достоевский изображал эту антиномическую диалектику несвободной любви. И ведь Beликий Инквизитор есть, прежде всего, именно жертва любви, несвободной любви к ближнему, не уважающей и не чтущей чужой свободы, свободы каждого единого из малых сих. Такая любовь в несвободе и через несвободу только выжигает воспаленное сердце, и сожигает мнимо любимых, — убивает их обманом и презрением. И не в этой ли антиномии один из фокусов трагедии в «Бесах…»
Достоевского не удовлетворяло романтическое решение антиномии. Органическую цельность нельзя обрести через возврат к природе или к земле, как бы ни был такой возврат привлекателен. Нельзя просто потому, что мир вовлечен в кризис, — органическая эпоха оборвалась. И вопрос в том, как выйти из разлагающегося и распадающегося быта. Достоевский изображает именно проблематику этого распада. Его последним синтезом было свидетельство о Церкви. Влад. Соловьев верно определил основную мысль Достоевского — Церковь, как общественный идеал…
Свобода вполне осуществима только через любовь и братство, — в этом тайна соборности, тайна Церкви, как братства и любви во Христе. Это и был внутренний отклик на все тогдашнее гуманистическое искание братства, на тогдашнюю жажду братской любви. Его диагноз и вывод тот, что только в Церкви и во Христе люди становятся братьями воистину, и только во Христе снимается опасность всякого засилия, насилия и одержимости, только в Нем перестает человек быть опасен для ближнего своего. Только в Церкви мечтательность угашается, и призраки рассеиваются…
В своем творчестве Достоевский исходил из проблематики раннего французского социализма. Фурье и Жорж Занд больше других открыли ему роковую проблематику социальной жизни. И, прежде всего, — бесплодие и опасность свободы и равенства без братства. Это и была ведь основная теза всего «утопического» социализма, которую люди тогдашнего «по-революционного» поколения полемически противопоставляли якобинству революции, всяким «женевским идеям» вообще. И это не был только социальный диагноз, это был диагноз морально-метафизический. Утопизм притязал быть именно «религией», — правда, «религией человечества», но все же с «евангельским» идеалом. И в период своих социал-утопических увлечений Достоевский оставался и чувствовал себя христианином. С Белинским он так резко порвал тогда всего больше, за то, что тот «ругал ему Христа». Как удачно говорит Комарович, «христианский социалист Достоевский ушел от позитивиста Белинского…»
Но к этому мечтательному и книжному опыту слишком скоро прибавился жестокий и действительный опыт Мертвого Дома… И в «Мертвом Доме» Достоевский узнал не только о силе зла над человеком, в опровержение гуманистического оптимизма. Важнее другое… «В каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это вынужденное общее сожительство…» Крайняя мука здесь в том, что приходится насильно жить вместе и сообща, — «во что бы то ни стало, согласиться друг с другом». Ужас принудительного общения с людьми, — вот первый личный вывод Достоевского из опыта Мертвого Дома… Но не есть ли катор жная тюрьма только предельный случай планового общества? И не становится ли всякое слишком организованное, хотя бы и по наилучшему штату, общежитие именно каторгой? И не неизбежно ли в таких условиях развиваться «судорожному нетерпению», или мечтаниям?..
«Это тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самом себе…»
От «Записок из мертвого Дома» к «Запискам из подполья» переход был вполне естественным… От социалистической утопии Достоевский теперь отрекается. «Записки из подполья» написаны, по-видимому, в ответ на «Что делать», — у Чернышевского Достоевский увидел темную и пошлую изнанку социальной утопии, разгадал в ней новое рабство. И все яснее ему становилось, что от рабства освободиться во имя формальной свободы нельзя. Такая свобода пуста и беспредметна, потому и вырождается в новое засилие, или одержимость. Власть мечты, или одержимость идеей, — это одна из главных тем в творчестве Достоевского…
Одной симпатии или жалости еще недостаточно для братства. И нельзя любить человека, просто как человека, — это означало бы полюбить человека в его данной случайности, не в его свободе. Но еще опаснее полюбить человека в его идеальном образе, — здесь всегда кроется опасность «наклеветать» живому человеку его мнимый идеал, удушить его мечтой, оковать выдуманной или надуманной идеей. Удушить и оковать себя мечтой может и каждый сам себя…
От гуманистической мечты о братстве Достоевский переходит к «органическим» теориям общества, передумывает славянофильские и романтические темы (здесь несомненно влияние Аполлона Григорьева). И не в том главное, что Достоевский исповедует «почвенничество», как идеологию. Но именно в его художественном творчестве эта тема о «почве» и о «мечте» становится основной. И вопрос стоит для Достоевского не в плане быта. Его тревожит беспочвенность на большой глубине. Перед ним стоит пугающий призрак духовного отщепенца, — роковой образ скитальца, скорее даже чем странника. И снова, это — типическая тема романтической метафизики, столь встревоженной этим распадом органических связей, этим отрывом и отпадением своевольной личности от среды, от традиции, от Бога. И «почвенничество» есть именно возврат к первоначальной цельности, идеал и задание цельной жизни. Для Достоевского, как и для других многих, то был проект еще не распознанной соборности. Во всем бытии есть некий раскол, в человеческом существовании всего больше. Человек уединяется, — в этом главная тревога Достоевского. И в ней по-новому звучат все еще социалистические мотивы, — мечта открыть или создать «органическую» эпоху. Из- под власти «отвлеченных начал» вернуть человека к цельности, к цельной жизни…
Между Достоевским и Влад. Соловьевым сродство гораздо глубже, чем то можно видеть при сличении разрозненных тезисов или взглядов. Но не следует преувеличивать их взаимного влияния. Их близость — в единстве личных тем… И очень скоро Достоевский понял, что одной цельности переживаний еще очень и очень недостаточно. И нужно вернуться не столько к цельности чувств, но именно к вере… Именно об этом и написаны главные романы Достоевского…
Достоевский был слишком чутким тайнозрителем человеческой души, чтобы остановиться на органическом оптимизме. Opганическое братство, организованное, пусть изнутри, каким-нибудь «хоровым началом», вряд ли многим будет отличаться от «муравейника…»
То правда, что органического соблазна Достоевский до конца так и не преодолел. Он остается утопистом, продолжает верить в историческое разрешение жизненных противоречий. Он надеется и пророчит, что «государство» обратится в Церковь, — в этом Достоевский оставался мечтателем. Но эта мечта отставала от его новых подлинных прозрений и разногласила с ними. «Гармонии» Достоевский требовал. Но уже провидел иное. История открывалась ему, как непрерывный Апокалипсис, и в ней решался вопрос о Христе. В истории вновь строится Вавилонская башня…
Достоевский видел, как вновь Христос встречается с Аполлоном, истина о Богочеловеке с мечтой о человекобоге. Бог с диаволом борется, а поле битвы в сердцах людей…
Очень характерно, что именно история всего больше интересовала Достоевского уже с молодых лет, и всегда у него было предчувствие каких-то надвигающихся катастроф. В истории он всегда чувствовал именно эту человеческую тревогу, встревоженность, и еще более — тоску безверия…
Достоевский мечтал о «русском социализме», но видел «русского инока». И этот инок не думал и не хотел строить «мировой гармонии», и вовсе не был историческим строителем. Ни святитель Тихон, ни старец Зосима, ни Макар Иванович…
Так, мечта и видение у Достоевского не совпадали. И последняго синтеза он не дал… Одно чувство оставалось у Достоевского всегда твердым и ясным: «Слово плоть бысть…»
Истина открылась и в этой жизни. Отсюда эта торжествующая Осанна…
Достоевский веровал от любви, не от страха. В этом он так не похож ни на Гоголя, ни на Конст. Леонтьева, одинаково стесненных в их духовном опыте каким-то нерасходящимся испугом, почти отчаянием… В историю русской философии Достоевский входит не потому, что он построил философскую систему, но потому, что он широко раздвинул и углубил сам метафизический опыт…
И Достоевский больше показывает, чем доказывает…
В особенности важным было то, что Достоевский сводил все искание жизненной правды к реальности Церкви. В его диалектике живых образов (скорее, чем только идей) реальность соборности становится в особенности очевидной. И, конечно, с исключительной силой показана вся глубина религиозной темы и проблематики во всей жизни человека…