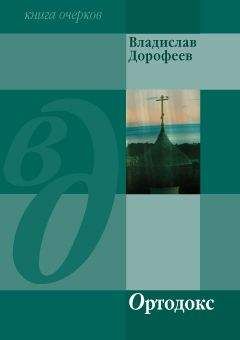Сто лет назад наши деяния во имя добра или зла триумфально превозносились риторами. Сейчас наши деяния безнадежно запутаны сильными молчаливыми людьми. Этот отказ от высоких слов и грандиозных картин породил целую расу маленьких людей как в политике, так и в искусстве. Современные политики предъявляют колоссальные претензии Цезарю и Сверхчеловеку, заявляя, что они слишком практичны, чтобы оставаться безупречными, и слишком патриотичны, чтобы быть нравственными; но в результате создается впечатление, что министр финансов — посредственность. Новые философы от искусства навлекают на себя те же претензии, потрясая своей энергией небеса и землю; но в результате создается впечатление, что поэт–лауреат — бездарность. Не хочу сказать, что сейчас нет людей более ярких; но смеет ли кто–нибудь утверждать, что они сильнее гигантов прошлого, следующих своей философии и исповедующих свою веру? Можно спорить, что лучше: свобода или зависимость. Но вряд ли можно отрицать, что их зависимость дала им больше, чем нам наша свобода.
Теория искусства вне нравственности прочно утвердилась в узких творческих кругах. Художники вольны творить что угодно. Они вольны написать «Потерянный рай», где Сатана победит Бога. Они вольны создать «Божественную комедию», где небеса окажутся подземельями ада. Но разве они это сделали? Сумели они при всей своей универсальности создать что–нибудь более великое и более прекрасное, чем пылкие речи жестоких католиков–гибеллинов или суровых и несгибаемых пуританских наставников? Создали они, как нам известно, лишь несколько кружков. Мильтон не только побивает их своим благочестием, он превосходит их и в дерзости.
Во всех их маленьких стихотворных сборниках не найти более сильного вызова Богу, чем тот, который ему бросил Сатана. Не найти там и величия язычества, которое ощущали пламенные христиане, описывающие, как Фарината поднял голову в знак презрения к мукам ада [Фарината дельи Уберти — глава флорентийских гиббелинов, враг семьи Данте, упоминается в «Божественной комедии», Ад, X, 31]. И причина вполне очевидна. Богохульство — это художественный прием, который зависит от философских убеждений. Богохульство зависит от веры и растворяется в ней. Если кто–нибудь в этом сомневается, пусть сядет и попытается всерьез возвести хулу на Тора. Думаю, что в конце дня семья найдет этого человека в состоянии изрядного изнеможения.
Таким образом, ни в сфере политики, ни в сфере литературы отрицание общих теорий не приводит к успеху. Возможно, именно поэтому было так много ложных или обманчивых идеалов, которые время от времени сбивали человечество с толку. Но, несомненно, не было в практике человечества идеала более безумного и обманчивого, чем идеал практицизма. Практичность и приспособленчество лорда Росбери [британский премьер–министр в 1894–1895 гг.] привели к наибольшему количеству упущенных возможностей. Поистине он признанный символ своей эпохи: человек, который практичен теоретически, а на практике непрактичен больше любого теоретика.
Во всей Вселенной не найти большей глупости, чем поклонение подобной житейской мудрости. Тот, кто постоянно прикидывает, сильна ли та или иная группировка, перспективно ли то или иное дело, никогда не сохранит веру достаточно долго, чтобы преуспеть. Политик–оппортунист подобен человеку, который отрицает бильярд, потому что проиграл партию, и отрицает гольф, потому что проиграл игру. Для практических целей нет ничего хуже, чем то значение, которое приписывается немедленной победе. Ничто не способствует стремительному падению больше, чем быстрый успех.
Открыв, что оппортунизм ведет к провалу, я решил посмотреть на дело шире, дабы убедиться, что так и должно быть. Я осознал, что куда более практично вернуться к началу и поговорить о теориях. Я понял, что люди, которые убивали друг друга во имя ортодоксии, были куда более практичными и здравомыслящими, чем те, которые переругиваются из–за закона об образовании. Ибо христиане–догматики стремились установить царство святости и первым делом задумались над тем, что же по–настоящему свято. А наши педагоги–теоретики ратуют за религиозную свободу, не пытаясь установить, что такое религия или что такое свобода. Если жрецы древности навязывали человечеству свои убеждения, то они, по крайней мере, предварительно заботились о том, чтобы изложить их ясно и вразумительно. А на долю современных англиканских и нонконформистских сект выпали гонения за доктрину, которую они даже не могут сформулировать.
По этим, а также и по многим другим причинам я решил вновь обратиться к основам. В этом и состоит главная идея моей книги. И я желал бы вести полемику с самыми выдающимися современниками, но не просто в ученой беседе, а в связи с самой сутью доктрины, которую они проповедуют. Меня не интересует мистер Редьярд Киплинг как яркий художник или яркая личность; он интересует меня как еретик, то есть как человек, который имеет наглость не разделять мои взгляды. Мне не нужен мистер Бернард Шоу в качестве самого блестящего и самого честного человека; он нужен мне в качестве еретика, то есть в качестве человека, чья философия очень основательна, весьма логична и совершенно неверна. Я возвращаюсь к методам тринадцатого столетия, oвдохновленный могучей надеждой на свершения.
Предположим, на улице началась безобразная свара из–за газового фонаря, который желают снести много влиятельных персон. В разгар ссоры появляется монах в сером одеянии, воплощающий дух Средневековья, и начинает заунывно вещать в сухой манере схоластов: «Собратья, давайте прежде всего рассмотрим достоинства Света. Ежели Свет есть Добро…» В этот момент его милосердно сшибают с ног. Возле фонарного столба возникает сутолока, через десять минут столб повален, и все поздравляют друг друга с практическим достижением, не свойственным Средневековью.
Однако дальше дело развивается туго. Одни валили столб, потому что хотели электрического света; другим требовалось ржавое железо; третьи — потому что любят темноту, в которой вершат злые дела. Кое–кому одного столба мало, надо больше; кое–кто присоединился, потому что подумывал сокрушить городскую управу; кое–кто просто хотел что–нибудь сокрушить. И вскоре в ночи разгорается война, и никто не знает, против кого сражается. И медленно, но неизбежно — сегодня, завтра или послезавтра — люди приходят к выводу, что монах был все–таки прав, и все зависит от доктрины Света.
Только теперь то, что можно было обсуждать при свете газового фонаря, придется обсуждать в темноте.
Многое было сказано, и сказано справедливо, о нездоровье монахов, о неистовстве, которым часто сопровождаются видения отшельников и святых сестер. Но не будем забывать, что их вера в воображаемое в определенном смысле оказывается более здравой, чем наша современная рассудочная мораль. Более здравая она по той причине, что способна усматривать идею успеха или триумфа в безнадежной борьбе за этический идеал, что Стивенсон, со свойственной ему поразительной меткостью, назвал «проигранной битвой добродетели». С другой стороны, современная мораль с полной убежденностью может указывать лишь на ужасы, порождаемые нарушением закона; в одном у нее нет сомнений: в том, что это болезнь. Она видит только несовершенства. Совершенств для нее нет.
Но монах, размышляющий о Христе или Будде, держит в голове образ, воплощающий совершенное здоровье, нечто ясное и воздушно–чистое. Он может погружаться в созерцание этого идеального здоровья и счастья много глубже, чем следует (он перестает замечать отсутствие сущностей и превращается в фантазера или безумца), но ему по–прежнему видятся цельные и счастливые картины. Он может даже лишиться рассудка; но он лишится рассудка из–за любви к здравомыслию. Однако тот студент, который сегодня изучает мораль, оставаясь в здравом уме, не заражен также нездоровым трепетом перед недугом.
Анахорет, исступленно перекатывающий камни, исполняя обеты, в сущности более здоров, чем иной здравомыслящий господин в цилиндре, прогуливающийся по Чипсайду. Ибо многие искушены только в губительном познании зла. Я не пытаюсь сейчас утверждать, что святоше присущи иные преимущества, чем те, что и так очевидны: он может умерщвлять свою плоть, но мысли его будут опираться на огромную силу и радость, на силу, которая не имеет границ, и радость, которой нет конца. Есть, конечно, другие возражения, которые не без оснований можно выдвинуть против тезиса о влиянии богов и видений на наши нравы — будь то в келье или на улице. Но одно преимущество эзотерической морали неизбывно: она всегда более радостна. Молодого человека удерживают от порока беспрестанные мысли о недуге. Но также он может не поддаваться ему, постоянно думая о Деве Марии. Вопрос в том, какой способ разумнее, если не сказать — действеннее. Разумеется, не стоит спрашивать о том, какой из них более здравый.