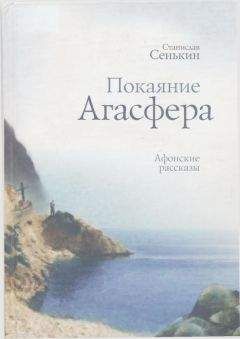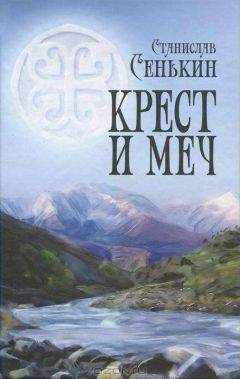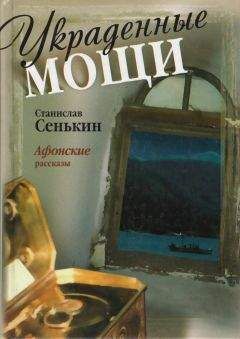Несколько лет назад у меня тяжело заболела мама, которая жила в деревне в одном из районов Новгородчины. Нужны были деньги на лекарства и уход за больной. Я принял трудное решение продать свою однокомнатную квартиру на Ленинградском проспекте и переехать к маме — денег с избытком хватило бы на нашу жизнь и ее лечение. Я думал, что поступаю как заботливый сын, да и творчество в сельской местности пошло бы лучше…
Приятель-иуда порекомендовал мне одно квартирное агентство, «которое не тратит много времени на бумажную рутину». При первом знакомстве с риелторами этой фирмы у меня появились сомнения, — их внешний вид, повадки и лексикон вызывали в памяти телесюжеты криминальной хроники. Но я подумал тогда, что черные риелторы — уже вымерший вид преступников, как и рэкетиры. Оказалось, я ошибался. Отрезвление было быстрым и жестоким. Пока шло оформление документов, меня заперли в квартире и даже в туалет я мог выйти по разрешению. Все это время меня поили водкой, вливая ее почти насильно. Я падал на грязный пол и засыпал с надеждой, что на следующий день все это прекратится. Но следующий день оказывался еще страшнее. Через несколько дней меня было уже не узнать.
Меня жестоко били, тонкая художественная натура сломалась быстро. Так я лишился квартиры, слишком легко и слишком жестоко, как мне тогда показалось. Но бандиты, хотя здравый разбойничий смысл предписывал убийство, сохранили мне жизнь. Может быть, просто мой пожухлый вид не вызывал у них никакого опасения. Может быть…
Затем мне пришлось испытать еще одно сильнейшее разочарование. Оно настигло меня в районном отделе милиции, где следователь отказывался принять у меня заявление, так как я сам, абсолютно добровольно, подписал бумаги, лишающие меня жилья. Следователь задушевно посоветовал мне не рыться в прошлом, а подумать о будущем, потому что меня могут лишить и жизни. Он, оценив меня, как слюнтяя, не способного отстаивать свои права, советовал мне не писать заявления! Я оторопел, ведь на дворе шли уже далеко не девяностые, и страна ощутила некое подобие стабильности.
Конечно же, я, несмотря ни на что, подал заявление…
Бритые головорезы выловили меня у дверей квартиры, к которой они как раз привели оценщика из крупного агентства, вывезли меня в ближайший подмосковный лесок, дали лопату и заставили копать самому себе могилу. Трясущимися руками я смог выкопать только небольшую ямку в снегу. Умирать не хотелось, и я ненавидел себя за это. Через полчаса браткам наскучило смотреть, как я ковыряюсь в промерзлой земле. Они дали мне пару тычков под ребра, презрительно двинули ногой под зад, приказав больше не ошиваться в районе Ленинградского, и укатили на своем Audi. А я сделал свой первый шаг в бездну — поднял с земли окурок.
У меня совсем не было денег и пришлось ночевать на местном вокзале рядом с цыганами, «патрулирующими» подмосковные электрички. На вторые сутки меня, холодного и голодного, привели в линейное отделение милиции, где опять избили и унизили — тогда я еще чувствовал унижение. Здоровенный, злобный майор сразу же дал мне понять, кто я такой и как мне предстоит теперь жить. Можно сказать, что он открыл мне глаза на суть вещей и стал моим духовным отцом. С того дня у меня не осталось никаких иллюзий. Я — бомж, и мне следует теперь держаться подальше от нормальных людей. Теперь я человек из «касты неприкасаемых». Отчаявшись получить помощь от милиции, я больше не стал туда обращаться, к тому же, я боялся бандитов. Им было плевать и на собственные жизни, не говоря уже о моей.
Но у меня оставался еще один шанс — возвращение в отчий дом. Я поехал к маме, окрыленный надеждой, что, как в детстве, она спасет меня от зла. Кошмар прекратится, она выздоровеет, и мы снова будем жить как раньше — в скудости, но в любви.
Добираясь до родной деревеньки на перекладных, я чувствовал почти религиозное воодушевление. Меня, как я думал, ждал самый светлый и любимый человек — мама.
Но меня встретил последний удар судьбы, — мама, пока я разбирался с квартирой, умерла. Родная сестра моя, похоронив маму, продала дом за копейки и уехала в неизвестном направлении. Сестра всегда завидовала мне… Впрочем, теперь это не имело уже никакого значения. Я чувствовал, как в моем сердце что-то надломилось. Теперь я стал совершенно свободен — надо мною воцарились тишина, небо, полное дождя, дождь проходил сквозь меня, но боли больше не было. И я запил, в первый раз в настоящем значении этого слова.
Сельские соседи мамы поначалу сильно сочувствовали мне, но это было, что мертвому припарки. Я остался один. Человек из «касты неприкасаемых». Я пил самогон на могилке, не закусывая, и засыпал, уткнувшись в свежий могильный холмик. Потом просыпался, шел в деревню и закладывал самогонщице последние вещи, что оставались у меня — часы, портмоне и золотое кольцо. Я плакал и беспробудно пил, совершенно не отдавая себе отчета в том, что происходит вокруг. А вокруг селяне безуспешно пытались привести меня в чувство. Поначалу мягко будили, увещевали, даже однажды принесли с утра огуречного рассола. Но кончилось тем, что выгнали взашей с кладбища. Мне уже было все равно. Из этого мира ушло все, что я любил, отныне меня окружал враждебный мир.
Повинуясь неясному, но сильному животному импульсу я возвратился в Москву, ругаясь с контролерами в электричках, обшаривая контейнеры на перекладных станциях и употребляя алкоголь по мере возможности. Дважды подрался с полудохлыми конкурентами у контейнеров, в совершенстве освоил мат…
Так я попал на самое дно и с ужасом ждал, когда же превращусь в одного из этих вурдалаков — людей, потерявших всякий человеческий облик. Я бы хотел, чтобы игра закончилась гораздо раньше последнего превращения. Всякий раз полнолуние выводило меня из равновесия — я пытался плакать, но чувствовал на лице непонятную ухмылку. Это как ВИЧ: ты еще можешь жить с ним какое-то время, но последняя стадия болезни необратимо убивает.
Надежда еще трепетно продолжала жить, но голос сердца подавлял её словами Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий!»
Я находил в себе силы пародировать действительность. Если и есть на земле пародия на ад — то это площадь трех вокзалов.
Я шел туда по кольцу, старательно избегая маячащих милиционеров. Сегодня я еще не выпил ни грамма спиртного, но шел и спотыкался, ловя презрительные взгляды прохожих…
Несколько часов назад я пытался просить милостыньку у Иверской часовни — на входе на Красную площадь. Это место было и остается для нищих одним из самых хлебных, за него постоянно идет драка.
Иверская часовня и находящаяся там Иверская икона Божией Матери во все времена считались хранителями Третьего Рима. Но часовня мало кормила нищих, их кормил так называемый «нулевой километр». Люди, приезжающие в Москву, почему то считали своим долгом придти к этому километру и бросить через левое плечо монетку. От этого простого действия человеку якобы будет сопутствовать удача. Чаще всего монеты быстро прибирали к рукам предприимчивые старушки или грязные полупьяные бомжи.
После получасовой попытки мне так и не удалось пробиться к кормушке «нулевого километра», и я отошел к часовне, где уже стояло несколько нищих, которые, судя по их мрачным лицам, также не собирались пускать меня на свою территорию.
…От холода я пробрался внутрь часовни, огляделся. Внутри читались какие-то молитвы, нескладный хор вторил молодому священнику:
— Радуйся, обрадованная, печаль нашу в радость претворяющая…
Я посмотрел на скорбный лик Божией Матери с Младенцем, вспомнил свою маму, то, что я так и не сумел с ней проститься, и, неожиданно для самого себя, тихо заплакал. Слезы лились по худым небритым щекам. Меня никто не гнал прочь: видимо, мои эмоции тронули молящихся, и они смирились с тем, что стоят в этом тесном молитвенном помещении рядом с таким мрачным и опустившимся типом, как я.
Мы молились все вместе, я даже пытался подпевать:
— Радуйся, обрадованная, печаль нашу в радость претворяющая…
После окончания акафиста я подошел к образу последним и приложился к нему. И мне действительно показалось, что все молящиеся в этой часовне были братьями и сестрами.
Священник в очках дал мне поцеловать крест и доброжелательно кивнул головой в знак одобрения. Меня это поразило — сколько я ни старался вызвать в людях сочувствие, — люди в ответ только презирали меня, а здесь, пусть и на краткие мгновения, они отнеслись как к равному. В это нелегкое время Церковь оставалась едва ли не единственной организацией, которая объединяла богатых, благополучных людей, с такими обездоленными, как я.
Молодой священник с аккуратной бородкой попросил меня обождать, пока он складывал свое одеяние в коричневый кожаный чемодан. Затем он вышел со мной из часовни и дружелюбно задал несколько общих вопросов. Потом отвернулся, пошарил в карманах и дал немного денег. Я стал было благодарить его, но он отмахнулся и бодрым шагом направился к метро.