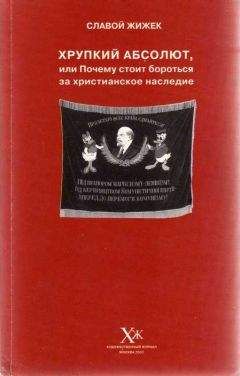К сожалению, понятие «тайный диссидент» — это оксюморон: соль диссидентского акта в его публичности; подобно всем известному ребенку из «Нового платья короля» Андерсена, он открыто говорит Другому то, о чем остальные лишь шепчут друг другу на ухо. Так что именно внутренняя дистанция Шостаковича в отношении официального социалистического понимания его симфоний сделала его прототипическим советским композитором. Эта дистанция является основой идеологии, в то время как авторы, которые целиком (сверх)отождествляемы с официальной идеологией, такие как Александр Медведкин, «последний большевик» — кинематографист, представленный в документальном фильме Криса Маркера, испытывают проблемы.
Каждый партийный функционер, вплоть до самого Сталина, был своего рода «тайным диссидентом», ведущим разговоры в кулуарах о том, что запрещено на публике. Более того, такое восхваление Шостаковича как тайного героя–диссидента не только фактически не соответствует действительности, но даже оскорбляет подлинное величие его поздней музыки. Даже малочувствительному к музыке человеку ясно, что его (заслуженно знаменитые) струнные квартеты — отнюдь не героические высказывания, бросающие вызов тоталитарному режиму, а мрачные комментарии к собственной трусости и оппортунизму. Целостность Шостаковича как художника коренится в том факте, что он целиком и полностью выражал в своей музыке внутреннее беспокойство, смесь отчаяния, меланхолической печали, вспышек бессильной ярости и даже ненависти к себе и уж никак не выставлял себя тайным героем. Важен тот факт, что самый его знаменитый Восьмой квартет был написан в то время, когда Шостакович наконец уступил давлению и стал членом Коммунистической партии (компромисс, который привел его чуть ли не к самоубийственному отчаянию): это музыка сломленного человека, если еще было кому ломаться. Хорошо известное [нрзб.] о русском, который мечется между меланхолической депрессией и вспышками бессильной ярости, таким образом, утрачивает свой внеисторический характер архетипа и обустраивается в конкретной социально- политической констелляции сговора с совестью, к которому художника склоняли в сталинском окружении. Отметим, что движения в Восьмом квартете от унылой депрессии («славянской меланхолической печали») к маниакальным вспышкам ярости и обратно в точности соответствуют этому клише. (На самом деле это как бы обычное внутреннее развитие классической сонатной формы — гармоническое начало, взрыв и развитие конфликта, финальное разрешение напряжения и возвращение к гармонии — воспроизводится у Шостаковича жутковато–насмешливым образом: от меланхолической печали к бессильному взрыву и затем опять к изначальной печали…) Тем не менее, столь превозносимые за их аскетическое богатство квартеты Шостаковича с их сдержанной горечью — парадоксальный итог его реакции на травмирующее вмешательство сталинистской политики, которая укротила его сатирически–экспериментирующую игривость.
Сильным травматическим переживанием в жизни Шостаковича стало резкое неприятие его оперы «Леди Макбет Мценского уезда» в 1936 году. Травлю начал сам Сталин, в гневе покинувший представление после первых двух актов. В результате Шостакович на два года исчез с глаз публики и вернулся, получив политическое прощение за свою прото–социалистически–реалистическую Пятую симфонию. В этот момент мы становимся очевидцами настоящего сдвига парадигм — от раннего Шостаковича, блестящего музыкального сатирика и экспериментатора, к автору эпических музыкальных трагедий, который возвращается к традиционным формам, прогрессирующим от минорной лирической печали к грохочущей какофонии финала победного «Парада на Красной площади». Тем не менее, ранний Шостакович не просто исчез, но заново появился в измененном виде. Даже его великие «сталинистские» сочинения (скажем. Пятая симфония) остаются в глубине двойственными: да, в сравнении с «интимной» музыкой они написаны по заказу, дабы ублажить Хозяина. Однако, именно будучи таковыми, эти сочинения, кажется, удовлетворяют некой «извращенной» потребности композитора, абсолютной аутентичной потребности. Шостакович сам утверждал, что финал Пятой симфонии передает иронически искаженное/преувеличенное принятие приказания (сверх-я) «быть счастливым, наслаждаться жизнью», как бы воспроизводя в музыке повторяющийся удар молота, вдалбливающего тебе в голову непрестанное предписание «Будь счастлив! Будь счастлив!» И все же это принятие, в его самом преувеличенном искажении, производит в себе собственное удовлетворение. Итак, даже если мы и согласимся с утверждением Шостаковича, что финал Пятой симфонии ироничен, то не ирония была у него на уме (критическое изображение официального оптимизма), но куда более смутное признание мерзкой власти предписания быть счастливым, которое воздействует на нас изнутри, преследует нас подобно дьявольскому призраку.
7. ПРЕДЕЛЬНАЯ ДВОЙСТВЕННОСТЬ СТАЛИНИЗМА
Как марксисты, мы не боимся признать, что сталинские чистки были более «иррациональными», чем фашистское насилие. Этот «иррациональный» избыток парадоксальным образом безошибочно указывает на то, что, в отличие от фашизма, сталинизм — случай извращенной аутентичной революции. При фашизме даже в нацистской Германии можно было выжить, сохраняя при этом вид «нормальной» жизни разумеется, если человек не занимался оппозиционной политической деятельностью, ну и, конечно, не был по происхождению евреем…), в то время как при сталинизме конца 1930–х гг., никто не мог явствовать себя в безопасности, любого могли неожиданно обвинить. арестовать и расстрелять как предателя. «Иррационализм» нацизма сконцентрировался на антисемитизме с его верой в еврейский заговор, в то время как «иррационализм» сталинизма пронизывал все социальное тело полностью. Именно по этой причине нацистские полицейские ищейки искали доказательства, следы настоящей антирежимной деятельности, в то время как сталинские следователи занимались откровенной и недвусмысленной фабрикацией дел (придуманными заговорами, саботажами и т. д.).
Однако само это насилие, направленное, в конце концов, коммунистическими властями на своих собственных членов, свидетельствует о радикальном внутреннем противоречии режима, о том, что у истоков режима был «подлинный» революционный проект, а непрестанные чистки были необходимы не только для того, чтобы стереть следы истоков режима, но также в качестве «возвращения вытесненного», в качестве памятки о радикальной негативности, лежавшей в основе режима. Сталинские чистки высших партийных эшелонов полагались на это фундаментальное предательство: обвиняемые были по сути дела виновны в том, что, будучи членами новой номенклатуры, они предали Революцию. Так что сталинский террор — это не столько предательство Революции, не попытка стереть следы подлинного революционного прошлого, сколько свидетельство своеобразного «отпрыска извращенности», который побуждал новый послереволюционный порядок заново вписывать в себя предательство Революции. чтобы «отражать» или «отмечать» его под прикрытием случайных арестов и убийств, грозивших каждому члену номенклатуры. Как и в психоанализе, сталинистское признание вины скрывало настоящую вину. (Как хорошо известно, Сталин мудро вербовал в НКВД людей низкого социального происхождения, которые были способны вымещать свою ненависть на номенклатуре, арестовывая и мучая вышестоящих аппаратчиков.) Внутреннее напряжение между стабильностью правил новой номенклатуры и извращенным «возвращением вытесненного» под маской повторяющихся чисток рядов номенклатуры лежит в самом сердце феномена сталинизма: чистки являются той самой формой, в которой преданное революционное наследие выживает и преследует режим. Мечта коммунистического кандидата на президентских выборах 1996 года Геннадия Зюганова (все было бы хорошо в Советском Союзе, если бы Сталин прожил на пять лет больше и завершил бы свой последний проект — покончил с космополитизмом и примирил Российское государство с Православной церковью. иными словами, если бы только Сталин провел свою антисемитскую чистку) нацелена как раз–таки на успокоение, в котором революционный режим наконец–то избавится от присущего ему напряжения и достигнет своей стабильности. Парадокс заключается, разумеется, в том, что ради достижения стабильности нужно было реализовать последнюю сталинскую чистку; запланированную на лето 1953 года «мать всех чисток», которая так и не состоялась из–за смерти Сталина. Возможно, теперь классический анализ сталинистского «термидора» не совсем адекватен: настоящий термидор случился только после смерти Сталина (или даже после падения Хрущева), в годы брежневского «застоя», когда номенклатура наконец–то стабилизировалась в «новом классе». Собственно сталинизм — это скорее загадочный «исчезнувший посредник» между подлинно революционным ленинским взрывом и его термидором. С другой стороны. Троцкий был прав в своих предсказаниях, когда говорил, что в 1930–е гг. сталинский режим может пасть в результате одной из двух следующих причин: либо рабочие восстанут против него, либо номенклатура перестанет довольствоваться политической властью и превратится в капиталистов, непосредственно владеющих средствами производства. Как говорится в последнем абзаце книги «Путь к террору» [61], с прямой ссылкой на Троцкого, случилось второе: средства производства в бывших социалистических странах, и особенно в Советском Союзе, попали в руки новых владельцев — бывшей номенклатуры; так что можно сказать, главным событием распада «реального социализма» стала трансформация номенклатуры в класс частных собственников. Однако невероятная ирония этой ситуации заключается в том, что оба предсказанных Троцким противоположных исхода, похоже, переплелись весьма причудливым образом. Номенклатура стала непосредственным собственником средств производства благодаря сопротивлению навязанным ей политическим правилам — сопротивлению, ключевым компонентом которого, по крайней мере в некоторых случаях («Солидарность» в Польше), было рабочее восстание против номенклатуры.