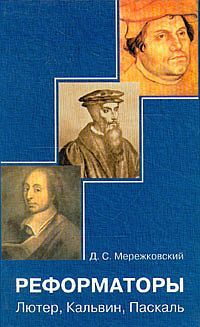«Вот как все произошло, — писал он другу своему, живописцу Луке Кранаху. — „Твои ли это книги?“ — спросили меня. Я отвечал: „Мои“. „Отрекаешься ли ты от них?“ — „Нет“. — „Ну, так ступай вон!“[342] Если так равнодушно-холодно говорит о таком великом для него событии, в котором солнце жизни достигло высшей полуденной точки, то, может быть, потому, что уже предчувствует, что венец мученический снова, как уже сколько раз, пройдет мимо него и что не на костре сожгут его, а в грязной луже утопят.
24
Утром 26 апреля потихоньку выехал он из Вормса в Виттенберг, на той же крытой полотном колымаге, с кучей соломы вместо сидения, на которой въехал туда десять дней назад, с теми же двумя спутниками, доктором Виттенбергского университета, Амсдорфом (Amsdorf), и августинским братом, Петценштейнером (Petzensteiner). Несколько дней погостил у отца с матерью и других родственников в том самом городе Эйзенахе, где двадцать лет назад, маленьким школьником, едва не погиб от нищеты, и 4 мая пустился в дальнейший путь по Готской дороге через Тюрингский лес.
За Альтерштейном, в дикой чаще леса, между гремучим студеным ключом и стволом расщепленного молнией старого бука, у развалин старой церкви — в тот сумеречный час, когда сильней ладанный запах только что распустившихся берез и смолисто-яблочный дух ярко-зеленой, веселой хвои, когда прядут над болотами волнисто-белую пряжу туманов дочери Лесного Царя Эрлкёнига, и блуждающие огоньки пляшут над мшистыми кочками, — вдруг, точно из-под земли выскочив, вооруженные всадники окружили колымагу Лютера. Двое, нацелившись из аркебуз на кучера, велели ему остановиться, а когда он хлестнул было коней кнутом, схватили их под уздцы и, стащив его с козел, немного потрепали. Робкий августинский монашек, ни жив ни мертв, потому что был уверен, что это не люди, а бесы, выскочив из колымаги, шмыгнул, как заяц, в кусты. Амсдорф что-то бестолково кричал, махал руками и оборонялся, но странно вяло и слабо, точно во сне. А Лютер сидел, не шевелясь, с таким равнодушным лицом, как будто это дело его не касалось. Когда же всадники велели ему выйти из телеги, покорно вышел и дал себя увести в глубину леса, где его усадили на лошадь и помчались во весь опор, сначала по большой дороге; потом свернули на окольную, с этой — еще на другую, на третью, все поворачивая, забираясь в самую чащу леса, где можно было ехать только шагом, где так долго кружили и плутали по буеракам, болотам, оврагам и волчьим или ведьминым тропам, что Лютер, очень хорошо знавший эти места, перестал понимать, где они находятся, и ему казалось иногда, что это не с детства ему знакомый Тюрингский лес, а какой-то другой, неизвестный. Странное чувство владело им, как будто все, что с ним происходит, не сон и не явь, а что-то между ними среднее — какой-то полупризрачный, полудействительный мир, в который он попал, как в ловушку, и выберется ли из нее когда-нибудь, не знал.
Было около полуночи, судя по звездам, когда на зелено-синем небе зачернели островерхие башни, зубчатые стены какого-то, на дремуче-лесистой горе, замка.
Если бы Лютер не сомневался, действительно ли есть то, чем кажется, какое бы то ни было из здешних мест, то он узнал бы тоже с детства ему знакомый замок Вартбургский.
Заскрежетали цепи подъемного моста; его опустили. Всадники въехали во двор замка, и цепи за ними заскрежетали — мост подняли. „Точно мышеловка захлопнулась“, — подумал Лютер.
С лошади слезть ему помогли какие-то почтительные люди, должно быть, конюхи или оруженосцы. Очень худой, высокий старик, с благородным и умным лицом, комендант (Кастелян) замка, рыцарь фон Берлепш (Berlepsch), как потом узнал Лютер, подойдя к нему, приветствовал его с низким поклоном: „Добро пожаловать, рыцарь Георг!“
„Вы, сударь мой, ошибаетесь. Я — доктор Мартин Лютер“.
„О нет, прошу, ваша милость, меня извинить, я слишком хорошо знаю, с кем имею честь говорить!“ — возразил комендант, еще ниже кланяясь, почтительно-любезной улыбкой, но так твердо и решительно, что Лютер понял, что спорить бесполезно; вдруг почудилось ему опять, что все, что с ним происходит, — не явь и не сон, а что-то между ними среднее, где, вместе с именем, он лицо свое потерял; что он уже не доктор Лютер и не рыцарь Георг, а так же, как Одиссей, обманувший Циклопа, — „Никто“:
„Я называюсь Никто; мне такое название дали мать и отец…“ „Знай же, Никто мой любезный, что будешь ты… съеден“.[343]
Взяв его под руку, старик подвел его к одной из башен, отпер огромный замок, отодвинул железный засов на низенькой, дубовой, железом окованной, точно тюремной, двери, и повел его наверх по крутой, узкой лестнице, где заметались спугнутые светом факелов летучие мыши и в висевших по всем углам паутинах старые, жирные пауки забегали. Поднятая в середине лестницы железная цепь загремела; отпертая чугунная решетка на ржавых петлях завизжала, и на самом верху башни, отперев еще один огромный замок на такой же, как внизу, железом окованной двери, комендант ввел гостя в просто, но удобно и чисто убранный покой, где накрыт был к ужину стол с весело на нем горевшими восковыми свечами. Рядом был другой, меньший покой — спальня.
С ласково-почтительной улыбкой пожелав рыцарю Георгу счастливого новоселья, старик вышел из комнаты, и многоголосое эхо повторяло не только на лестнице, но и в других местах замка, постепенно удалявшиеся зловещие гулы запираемых замков, засовов, цепей и решеток.
Лютер сел за стол, и двое хорошеньких, похожих на девочек, богато, как придворные пажи, одетых мальчиков начали подавать ему на серебряных блюдах кушанья и наливать из серебряных кувшинов вино в хрустальный кубок с гербом Тюрингских ландграфов, такой великолепный, что сами они могли из него некогда пить.
Весело как будто, а на самом деле, томительно-скучно болтая с мальчиками, узнавал Лютер от них, что в башне, где его поселили, живут только совы, крысы, летучие мыши, а может быть, и упыри, сосущие кровь из людей по ночам; также, что вместо „гадкого, чужого платья“, которое на нем сейчас, ему возвратят завтра его, рыцаря Георга, собственное платье — лилового бархата камзол, штаны в обтяжку, сапоги со шпорами, шляпу с пером, шпагу и золотую цепь на грудь — все, как следует ясновельможному рыцарю. Эти слова — „свое и чужое платье“ — произносились так уверенно, что опять почудилось ему, что вместе с одеждой, так же, как с именем, он потеряет лицо свое и будет Никто.
После ужина мальчики ушли, и опять многоголосое эхо повторило зловещие гулы замков, а когда последние гулы замерли — сомкнулась над ним тишина бесконечная, как водная поверхность над утопленником. „Как ржавый ключ, иду ко дну“, — подумал он и проговорил, не узнавая своего собственного голоса, как будто не он говорил, а неизвестный ему человек — тот страшный Никто: „Как ржавый ключ, иду ко дну“.
„Я согласился, чтобы меня заточили и спрятали, я еще сам не знаю где“, — вспомнил он то, что писал другу своему, живописцу Луке Кранаху, с неделю назад, на пути из Вормса в Эйзенах. „О, насколько было бы лучше мне умереть от руки насильников!.. Но я не должен презирать совета добрых людей, до какого-то назначенного срока“.[344] Этот срок, увы, никогда не наступит — понял он теперь. Чаша „полная сладчайшей жидкости“, по слову Данте, чаша мученичества прошла мимо уст его не до срока, а навсегда.
„Боже мой! Боже мой! Зачем отвел Ты от меня руку злодеев и палачей? Почему не принял жизни моей, которую я приносил Тебе в жертву от такого чистого сердца“, — спрашивал он,[345] но знал, что ответа не будет; была только тишина бесконечная — на все вопросы человека — молчание Бога.
25
В Вартбургском заточении Лютера повторилось то же, что столько раз бывало в жизни его: в самую нужную минуту происходит самое нужное событие; то, что кажется „случаем“, есть, может быть, на самом деле, „Промысел“.
После того, что Лютер сказал и сделал в Вормсе, никакие слова и дела его, никакое присутствие не могло бы действовать на его друзей и недругов так, как его внезапное молчание, бездействие, отсутствие. В те самые дни, когда ему казалось, что он потерял лицо свое и что имя его — Никто, — он в действительности только начинал лицо свое находить и быть кем-то для мира.
Весть об его отсутствии пронеслась по всей Германии с быстротою молнии.
„Жив ли он или умер, я не знаю, — писал Альбрехт Дюрер в своем путевом дневнике. — Если его убили, то он умер как мученик, за веру Христову… Плачьте о нем, все христиане, ибо он был великим пророком Божиим“.
Вот когда исполнилось для многих то, что предсказывала та лубочная картинка, где голубь Духа Святого сходил на Лютера и лицо его было окружено сиянием, как лица святых на иконах.
Многие в простом народе думали, что он убит Папой или императором: тело его, исколотое ножами, окровавленное найдено будто бы на дне рудокопного колодца, куда занесли его, по мнению католиков, бесы, а по мнению протестантов, — католики.[346]