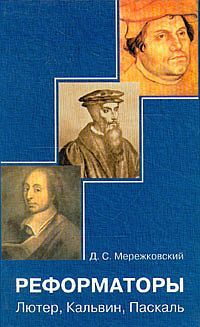«Это ты, куманек? Ну ладно, стучи себе на здоровье!» — проговорил он, зевая; вернулся в спальню, лег и спокойно заснул.[364]
А в другой раз, подойдя ночью к постели, увидел, что на ней лежит большая черная собака, какой ни у кого в замке не было, тотчас понял, что это, но не испугался, прямо подошел к постели, произнес стих того псалма, где говорится о данной Богом человеку власти над всею тварью: «Все положил под ноги его» (Пс. 8, 7). Перекрестился, схватил собаку за загривок, поднял и понес к окну. Зверь не зарычал, даже не визгнул, только повернул к нему голову, как будто усмехаясь, оскалил два белых клыка и заглянул ему прямо в глаза не звериным, но и не человеческим взором. Он поднял раму и выбросил в окно собаку. «И уже никто никогда ее больше не видел».[365]
Эта Лютерова черная собака, кажется, сродни тому Фаустову черному пуделю, из которого вышел веселый школяр в огненно-красном плаще с лошадиным копытом. Судя по «Застольным беседам» Лютера, он хорошо знал историю Фауста:[366] мог прочесть ее в одном из многих списков, ходивших тогда по рукам, в том самом городке Виттенберге, где три века спустя прочтет ее в другом списке второй великий германец, равный Лютеру, Гёте.
Зачем плестись пешком к далекой цели?
Тебе бы, друг, летать на помеле,
А мне — на скачущем козле,
Скорей бы так на шабаш мы поспели.
Это приглашение беса на Вальпургиеву ночь мог бы услышать и Лютер, как Фауст.[367]
«Правду говорит Жерсон: диавол преследует человека в уединении, как заблудившуюся в пустыне овцу», — скажет Лютер в «Застольных беседах».[368] «Многие и хитрые бесы искушают меня и говорят, будто бы развлекают от скуки», — жалуется он в письмах друзьям из Вартбурга.[369] Шабаш ведьм — одно из этих «развлечений от скуки».
Памятуя слово Господне «Се, даю вам власть наступать… на всю силу вражию» (Лука, 10:19), Лютер советовал ученикам своим: «Диавола не бойтесь, плюйте на него, и убежит он, потому что он не выносит презренья». «Легче всего диавол побеждает человека страхом и унижением. Верь, что спасен, и радуйся; все дьяволовы козни от человеческой радости тают, как снег на солнце».[370]
Лютер был прав, что сила диавола не в нем самом, а в человеческой слабости и что после того, как в дом сильного вошел и связал его Сильнейший, — сколько бы диавол ни искушал и ни мучил верующих, он погубить их не может; но ошибался, думая, что уже победил Врага; близким казалось ему далекое, обещанное: «На аспида и василиска наступишь, топтать будешь льва и дракона» — уже дарованным, и то, что будет, тем, что есть. «О, если бы я мог найти такой огромный грех, чтобы диавол наконец понял, что я не боюсь никакого греха!» — этого он не сказал бы, если бы знал, почему на искушение диавола «Бросься отсюда вниз!» Христос ответил: «Господа Бога твоего не искушай!»[371] Лютер ошибался, думая, что может не бояться греха, и суждено ему было заплатить за эту ошибку.
Стояли знойные дни августа. В воздухе пахло гарью лесного торфа, и мутно-белою мглою застилалась даль. Лютер сидел однажды ночью в большом покое, за рабочим столом. Только что лежал в постели в маленькой спальне и, когда и как перешел оттуда сюда, не помнил. Странное оцепенение напало на него; все хотел что-то вспомнить, о чем-то подумать, и не мог.
Глядел прямо в окно: огромная полная луна заливала всю комнату почти ослепительно ярким светом. К мертвой тишине Вартбурга он давно привык; но никогда еще не было и здесь такой тишины. Точно все оцепенело так же, как он, и, затаив дыхание, ждало чего-то.
Перед ним лежала на столе открытая книга: Ветхий Завет на еврейском языке. Свет луны был так ярок, что он легко мог прочесть Песню Песней: «Сплю, а сердце мое бодрствует; вот голос моего возлюбленного, который стучится: „Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка любовь, как смерть“» (Песнь Песней, 5:2, 8:6).
Слабо запахло лесными нарциссами. Вспомнил, что ему говаривал «маленький грек», Меланхтон, о похищении Персефоны по Гомерову гимну: греческое имя цветка Narkissos от корня narkân, «опьянять, одурять, погружать в беспамятство»; высшее опьянение жизнью — жизни конец, срыв и падение в бездну: «Бросься отсюда вниз». Бледный цветок могил, «тяжело пахнущий», baryodmos, страшно сладкий тленом любви-похоти — вот что такое Нарцисс. Только что сорвала его Персефона, как разверзлась под нею утроба земли, выкатил из нее, на конях огнедышащих, Адоней, царь подземного царства, подхватил ее и умчал в преисподнюю.[372]
Вдруг послышался из спальни, оттуда, где стояла постель, глубокий вздох; тишина сделалась мертвее, свет луны — ярче, и сильнее запахло нарциссами — женским телом — тленом. Медленно поднял он глаза от книги, чтобы взглянуть туда, откуда послышался вздох, но сделалось так страшно, что вскочил, хотел бежать, но что-то сильное, грубое толкнуло его в спину и, спотыкаясь, прошел он, как на плаху, в спальню к постели. Крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть, но, как человек видит и сквозь сомкнутые веки молнии, — увидел он лежавшее на постели, голубовато-белое, точно из лунного света сотканное голое женское тело, с прекрасным, но бледным, без кровинки, лицом, как у мертвой. Глаза были закрыты, длинные ресницы опущены. Но если и вечным сном уснула, то было что-то бодрствующее, живое в смерти: «Сплю, а сердце мое бодрствует». Как Богиня, Пенорожденная, стыдливо закрывала или бесстыдно показывала рукою то, что надо было бы скрыть. И вся она была, как упоительно страшный, тленом «тяжело пахнущий» нарцисс.
Но вдруг вспомнил он то, что слышал от людей, опытных в диавольских кознях: бес, иногда похищая с кладбища только что похороненные тела молодых красивых женщин и девушек, оживляет их духом своим так, что мужчины могут совокупляться с ними, не зная, что это не живые тела, а трупы.[373]
Сомкнутые, бледные, мертвые губы ее разомкнулись, ожили, порозовели; вырвался из них глубокий вздох. Руку отвела от того, что скрывала, и в лицо ему пахнул упоительно страшный запах женского тела — тлена. Выступила на губах ее улыбка такая зовущая, вспыхнул меж дрогнувших опущенных ресниц огонь такого желания, что и в нем ответным желанием загорелась вся кровь.
Но вспомнил: «Труп!» — и волосы на голове его встали дыбом от ужаса. Руку хотел поднять, чтобы перекреститься, — рука оцепенела; хотел произнести молитву — язык отнялся. Но что язык не мог сказать, сказало сердце:
«Пресвятая Матерь, спаси!»
И вдруг исчезло все.
Утренний свет увидел в окно и услышал тихий ровный шум дождя. Ночью, должно быть, пронеслась где-то очень далеко гроза. Воздух был легок и свеж. Пахло из открытого окна уже осенней листвой и мокрой смолистой хвоей.
Вспомнив то, что было ночью, подумал: «Только чудом Она и спасла меня — отблагодарила за акафист!» Несколько дней назад начал писать акафист Пресвятой Деве Марии по-евангельскому: «Величит душа моя Господа, Magnificat».[374] Тихие слезы текли по лицу его, как тихие капли дождя; плакал от умиления и благодарности Ей за чудо спасения. Тело все еще ныло от боли, как будто били и мучили его всю ночь; каждая жилка в теле дрожала, как после пытки, а в душе была уже радость и тишина. Диавола пустыни еще не победил, но уже знал, что победит.
Встал, перешел из спальни в большую комнату, сел за рабочий стол и принялся за дело так бодро и весело, как еще никогда в Вартбурге. Начатый акафист продолжал. Та же песнь была и в его душе, как в ее: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем» (Лука, 1:46–47).
27
Как это часто бывает в однообразной и уединенной жизни, медленно тянулись дни, а недели и месяцы летели быстро. Только что, казалось, оделся лес в осенний пурпур и золото, как уже снял свой убор; желтые листья зашуршали под ногой в прозрачно-оголенных просеках, где с царственным величием выступал круторогий олень с трепетной ланью. Крепче запахло в лесу прелым листом, опенками, скипидарно-душною, болотною сыростью, медвежьим логовом и чем-то еще неведомо-жутким, как бы сырым и теплым, косматым мехом самого лешего. Зыблющимся треугольником, черные в зыбкой и бледной лазури небес, полетели журавлиные станицы на юг с призывно-печальным курлыканьем, и дикие лебеди понеслись так высоко, что их самих не видно было — чуть слышался только их подоблачный, трубному звуку подобный клич. Первые снежинки закружились в воздухе, ветви плакучих берез опушились на утреннем солнце сверкающим огнем, и скоро вся земля забелела под снегом. И затрещал утренний веселый огонь в очаге.
Лютер много писал: книгу «Об исповеди», «Истолкование псалмов», «Проповеди», «О монашеских обетах», «Проповедь о брачной жизни», «Против Лейпцигского козла (Доктора Эмзера)», «Против английского короля Генриха» и обличительное послание к Майнцскому архиепископу о возобновившейся продаже Отпущений: «Если Ваше Преподобие не отменит ее, то я вынужден буду приписать вам те гнусности, какие приписывал Тецелю… и показать всему христианскому миру, чем отличается епископ от волка».[375] Написал также книгу «О Христе и Антихристе» и многие другие.[376] В то же время, готовясь к переводу Священного Писания на немецкий язык, продолжал изучать еврейский и греческий.