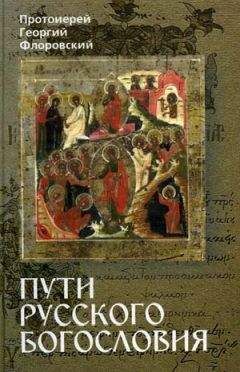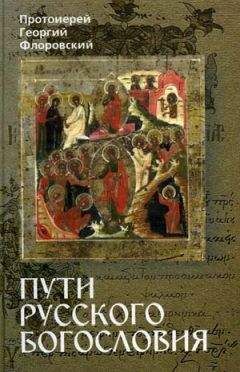Зло, в восприятии Соловьева, есть только разлад, беспорядок, хаос… Иначе сказать, дезорганизованность бытия… Потому и преодоление зла сводится к реорганизации или просто организации мира…
И это совершается уже силой самого естественного развития. «На темной основе разлада и хаоса невидимая сила выводит светлые нити всеобщей жизни и слаживает разрозненные черты вселенной в стройные образы…»
Это есть сразу и логическая, и эстетическая завершенность или полнота, — космос, эта «темного хаоса светлая дочь», по поэтическому слову самого Соловьева…
В органическом целом ведь не может быть лишних элементов. Это значит, что нет и недолжных элементов. Зло коренится только в их распорядке, т. е. в непорядке или беспорядке. Тем самым зло не устойчиво. «Разрозненное, бессмысленное бытие существ есть только их ложное положение, призрачное и преходящее…»
Источник зла и саму его энергию Соловьев верно усматривал в эгоизме, в этом стремлении разъединиться, обособиться, замкнуться в себе и от других, — «это противопоставление себя всем другим и практическое отрицание этих других». Но, во-первых, это стремление к расчуждению не выполнимо, не осуществимо, — «невольное влечение единящей силы» всегда сильнее (срв. уже закон всемирного тяготения, образующего естественную солидарность мира). Смысл всегда и непременно торжествует над бессмыслицей. У Соловьева эта неизбежность явно преувеличена, получает характер натуральной необходимости. Ибо, во-вторых, само расчуждение вводится в этот процесс самораскрытия смысла, как его необходимая предпосылка. «Зачем в мировой жизни эти труды и усилия? Зачем природа должна испытывать муки рождения, и зачем прежде, чем породить совершенный и вечный организм, она производит столько безобразных, чудовищных порождений, невыдерживающих жизненной борьбы и бесследно погибающих? Зачем все эти выкидыши и недоноски природы? Зачем Бог оставляет природу так медленно достигать своей цели и такими дурными средствами?…»
Вот на это космическое зло, на это безобразие в природе, Соловьев и обращает свое внимание, прежде всего… И на свой риторический вопрос он отвечает «одним словом», выражающим нечто такое, без чего не могут быть мыслимы ни Бог, ни природа, — «это слово есть свобода…» Однако, вряд ли здесь не только именно одно слово…
«Для самоотрицания необходимо предварительное самоутверждение: для того, чтобы отказаться от своей исключительной воли, необходимо сначала иметь ее; для того, чтобы частные начала и силы свободно воссоединились с безусловным началом, они должны прежде отделиться от него, должны стоять на своем, стремиться к исключительному господству и безусловному значению, ибо только реальный опыт, изведанная коренная несостоятельность этого самоутверждения может привести к вольному отречению от него и к сознательному и свободному требованию воссоединения с безусловным началом…»
Зло есть точно некий выкуп свободы. Падение мировой души есть путь к ее свободному восстановлению. «И цель достигнута заране, победа предваряет бой…»
Падшая природа, тот мир, который «во зле лежит», есть для Соловьева, «только другое, недолжное, взаимоотношение тех же самых элементов, которые образуют и бытие мира божественного», только «перестановка известных существенных элементов, пребывающих субстанциально в мире божественном…» Существующее отлично от должного «только по положению…»
Именно отсюда этот замысел всеобщего синтеза, вселенского примирения или восстановления, через новую перестановку. У Соловьева было это удивительное утопическое доверие ко всякого рода соглашениям и перестановкам…
То не было для Соловьева только убеждением рассудка. У Соловьева был живой мистический опыт. В эти ранние годы то был всего скорее, опыт спекулятивной теософии. Романтика, Якоб Беме и его продолжатели, и даже Парацельс и Сведенборг, — вот тот мистический или теософский круг, в котором выращивалось первое мировоззрение Соловьева. Вскоре прибавилось изучение гностиков и каббалы. Именно в эти ранние годы и были продуманы и даже написаны все главные философские книги Соловьева (только «Оправдание Добра», да статьи по «теоретической философии» относятся к поздним годам). В »Чтениях о Богочеловечестве» (и во французской книге) Соловьев очень близок к Шеллингу, в основной интуиции и в частных дедукциях; в «Критике отвлеченных начал» сильно чувствуется влияние Гартмана и Шопенгауера, — и всегда сказывается влияние Гегеля и его методы…
В том и было основное и роковое противоречие Соловьева, что он пытается строить церковный синтез из этого нецерковного опыта. Это касается, прежде всего, и его основной концепции, его учения о Софии. Соловьев и впоследствии так всегда и оставался в этом душном и тесном кругу теософии и гностицизма, В 90-ых годах, после крушения своих унионально-утопических надежд и расчетов, Соловьев вторично переживал очень острый рецидив этого мечтательного гностицизма. Это был, кажется, самый темный период в его жизни, «обморок духовный», соблазн эротической магией, время гнилой и черной страсти. Но все же то был уже рецидив. Во всяком случае, с неоплатонизмом и с новой немецкой мистикой Соловьев всегда был связан больше и теснее, чем с опытом Великой Церкви и с кафолический мистикой. Особенно характерно, что у Соловьева вовсе не было литургической чуткости. Церковь он воспринимал скорее в элементах схоластики и каноники, еще и в плане «христианской политики», — всего меньше в плане мистическом, всего меньше — на глубинах таинственных и духовных. У него бывали видения, непостижные уму (срв. его «Три свидания» и всю его мистическую лирику вообще). Но именно в них, в этих загадочных «встречах» и видениях «Вечной Женственности», Соловьев и был всего дальше от Церкви…
Именно соборность Церкви оставалась для Соловьева мистически закрытой. Он слишком был связан с протестантизмом, через философию, через немецкий идеализм и мистику…
Он всегда не на церковно-исторической магистрали, а на каком-то мистическом окольном пути…
Конечно, историю древней Церкви и святых отцов Соловьев достаточно знал и изучал, — Mansi читал он, кажется, больше, чем Migne’я… Но и здесь его лично привлекали всего больше именно гностики (Валентина он считал одним из самых великих в истории мысли, особенно его учение о материи), еще и Филон, влияние которого всегда чувствуется у Соловьева при толковании Ветхого Завета (и в «Истории теократии»). Дальше Оригена, во всяком случае, Соловьев так и не пошел, хотя Оригеновский «универсализм», после сильного им увлечения, он и отвергнул. В известном смысле, Соловьев так и остался в доникейской эпохе, в доникейском богословии, с его пропедевтической проблематикой. Странным образом, о Богочеловечестве Соловьев говорит много больше, чем о Богочеловеке, — и образ Спасителя остается в его системе только бледной тенью. Именно христологические главы в «Чтениях о Богочеловечестве» совсем неразвиты. Это удивляло и смущало даже Розанова…
У Соловьева поражает именно эта странная невосприимчивость или невнимание к мистическим святыням Церкви, равно Восточной и Западной. Мистика света Фаворского также остается вне его кругозора, как и Тереза Испанская или Poverello из Ассизи. В его французской книге о «Вселенской Церкви» всего меньше трезвой «католической» церковности, вместо того — теософские дедукции догматов. Сближать Соловьева с блаженным Августином нет действительных поводов и оснований. Нет и поводов предполагать, что к Римской церкви мистически привлекало его почитание Пречистой Девы, theologia Mariana. В его творчестве это совсем не чувствуется, не чувствуется и в лирике, — перевод «литаний» из Петрарки еще ничего не доказывает…
Очень характерно, что раскрывая в «Чтениях о Богочеловечестве» свое учение о Троичности, Соловьев оговаривает, что не учитывает тех частностей, которые встречаются у отдельных мыслителей, у Филона или Плотина, у Оригена или Григория Богослова, — в существенном и основном учение у них одно. «В самом деле, оригинальность христианства не в общих взглядах, а в положительных фактах, не в умозрительном содержании его идеи, а в ее личном воплощении». Соловьев точно возвращается вспять к тому месту, с которого апологетам II-го века Сократ и Гераклит представлялись «своими», казались «христианами до Христа» (Соловьев именно этими словами определяет роль Филона и Плотина). «Положительные факты», к тому же, Соловьев сразу же осложняет спекулятивным толкованием. Богочеловечество в «вечном мире» осуществлено от начала, и Воплощение есть только некое проявление этого вечного единства в мире вещественности и бывания. Воплощение Слова, в таком толковании, есть только нисхождение вечного Христа в поток явлений. «В сфере вечного, божественного бытия Христос есть вечный духовный центр вселенского организма. Но так как этот организм, или вселенское человечество, ниспадая в поток явлений, подвергается закону внешнего бытия и должно трудом и страданиями во времени восстанавливать то, что оставлено им в вечности, т. е. свое внутреннее единство с Богом и природой, — то и Христос, как деятельное начало этого единства, для его реального восстановления должен был низойти в тот же поток явлений, должен был подвергнуться тому же закону внешнего бытия и из центра вечности сделаться центром истории, явившись в определенный момент, — в полноту времен…»