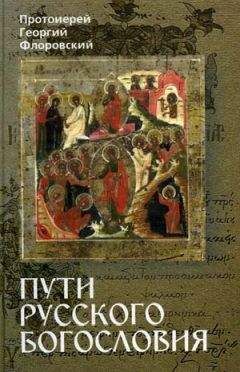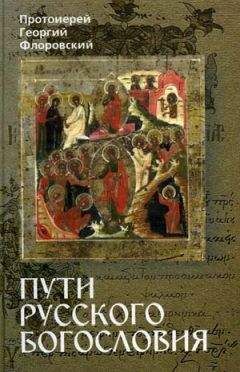Это напоминает Оригена, но бледнее, чем у него, и без того личного чувства, которым у Оригена так согрето все построение (срв. учение Соловьева об «универсальном или абсолютном человеке» или «всечеловеческом организме», как о «вечном теле Божием»). От церковного догмата Соловьев, во всяком случае, далеко отходит…
Во всех его построениях силен привкус символического иллюзионизма… Символическое толкование событий и лиц у Соловьева не столько повышает ценность и значимость этих чувственных знаков, через соотнесение их к горним реальностям, сколько, напротив, обесценивает их, обращая в какую-то прозрачную тень, — точно новое доказательство ничтожества всего земнородного… В истории лишь показуются, экспонируются бледные образы или подобия от вечных вещей…
Таков и был символизм или аллегоризм у Филона и Оригена…
В этом «иллюзионизме» коренится источник всех утопических неудач Соловьева, источник всех его личных разочарований и отречений…
Оригинальным мыслителем, правду сказать, Соловьев не был. Но он был мыслитель необыкновенно чуткий… Всегда оставался он только истолкователем великой идеалистической традиции, от Платона и неоплатоников и кончая немецким идеализмом. И у него был великий и редкий платонический дар — трогать мысль…
Научиться методу у Соловьева невозможно, но от него можно загореться вдохновением… Он, действительно, сумел показать исторические «дела» философии, сумел вовлечь русское сознание в этот суровый искус философского раздумья. Все его делание было действенным и подлинным откликом на религиозное томление и тревогу его века, на весь этот религиозный ропот и сомнение. То был, действительно, некий духовный подвиг…
И во всем духовном складе Соловьева так много рыцарства и благородства, если и не героизма… Очень убеждает и само его стремление от христианского слова к христианскому делу…
В разные эпохи Соловьев совсем по-разному строил практические схемы. Впрочем, в них по существу гораздо больше неизменного, чем то кажется при наблюдении со стороны… От славянофилов он унаследовал убеждение, что историческая инициатива и решающее влияние перешли от Запада к России. Недолго мечтал он о вселенском призвании Православной Церкви, но гораздо тверже веровал в универсальное призвание Русского Царя. Ведь русскую иерархию Соловьев упрекал в отказе и забвении о своем общественном призвании, «чтобы проводить и осуществлять в обществе человеческом новую духовную жизнь, открывшуюся в христианстве». И, прежде всего, Церковь должна восстановить или вновь обрести свою свободу, в духе свободы и мира размежеваться с государством, в пределах неразложимой, но и свободной целости исторического бытия. «Собор Русской Церкви должен торжественно исповедать, что истина Христа и Церковь Его не нуждаются в принудительном единстве форм и насильственной охране, и что евангельская заповедь любви и милосердия прежде всего обязательна для церковной власти». В особенности же Церковь должна вновь привлечь и притянуть к себе «лучших людей» из образованного общества, «отдаленных от истины христианской тем образом мертвенности и распадения, который эта истина приняла в нынешней учащей Церкви…»
Эти ожидания и пожелания Соловьева не сбылись и не сбывались. Но решающим толчком были для него мартовские события 1881-го года. [71] Вполне решительно и резко Соловьев осуждал тогда насилие революции, и видел в нем ясное свидетельство ее беcсилия, — подлинно сильным может быть только свободное добро. Но именно потому он и ждал, и требовал от Царства — простить. Это было его тогдашнее убеждение вообще. «Чтобы молитва не была языческим пустословием, необходима полная вера в силу Духа Божия, совершенная преданность всеблагой воле Божией, решительное отречение от всех внешних, вещественных, недостоиных дела Божия средств и орудий» (см. уже в статье о «Духовной власти в России», 1880). Именно поэтому Соловьев и говорил о прощении. «Веруя, что только духовная сила Христовой истины может победить силу зла и разрушения, проявляемую ныне в таких небывалых размерах, — веруя также, что русский народ в целости своей живет и движется духом Христовым, — веруя, наконец, что царь России есть представитель и выразитель народного духа, носитель всех лучших сил народа, — я решился с публичной кафедры исповедать эту свою веру! Я сказал в конце речи, что настоящее тягостное время дает русскому Царю небывалую прежде возможность заявить силу христианского начала всепрощения и тем совершить величайший нравственный подвиг, который поднимет его власть на недосягаемую высоту и на незыблемом основании утвердит Его державу. Милуя врагов своей власти вопреки всем естественным чувствам человеческого сердца, всем расчетам и соображениям земной мудрости, Царь станет на высоту сверхчеловеческую, и самым делом покажет божественное значение Царской власти, — покажет, что в Нем живет высшая духовная сила всего русского народа, потому что во всем этом народе не найдется ни одного человека, который мог бы совершить больше этого подвига» (из письма на имя Государя).
Подвиг совершен не был. Для Соловьева это было не только социально-политическим разочарованием. Это был для него, прежде всего, духовный или мистический шок. Он теряет веру или доверие к христианской искренности и серьезности действующих лиц. И тем не менее его вера во вселенское предназначение русского царства так и осталась неизменной…
Важно подчеркнуть, — ведь именно эта вера была одной из главных предпосылок и его униональной утопии. Ведь под именем «соединения Церквей» Соловьев проповедовал некий вечный союз Римского архиерея с Русским царем, — союз высших носителей двух величайшим даров: Царства и Священства…
Без Русского царства и самое Папство не может осуществить своего теократического призвания. Ибо только в славянском элементе может Священство найти среду для своего окончательного воплощения. Здесь, очевидно, сказывалось увлечение Штроссмаером [72]…
То будет третья империя, — после Константина и Карла Великого. «После этих двух предварительных воплощений она ждет третьего и последнего воплощения своего…» Это из предисловия к «La Russie et 1'Eglise universelle…»
И там же о славянском царстве… Ваше слово, о народы слова, это — вселенская теократия, истинная солидарность всех наций и всех классов, — христианство, осуществленное в общественной жизни, — политика, ставшая христианской; это — свобода для всех угнетенных, покровительство для всех слабых; это — социальная справедливость и добрый христианский мир…»
Это и есть «правда социализма», развернутая теперь в «теократический» синтез…
На тему об «Империи» Соловьев упоминает Тютчева и Данте. И с этим скрещивается влияние хорватских впечатлений, особенно же влияние епископа Штроссмайера…
В другом месте Соловьев прямо называл славянство и Россию «новым домом Давидовым в христианском мире». Теократическую миссию и призвание славянства он описывал по Ветхому Завету…
В синтезе Соловьева был еще и третий момент, — служение пророка…
В ранних схемах у Соловьева был очень ярко выражен этот типический мотив романтики, — искусство, как «теургия». [73] И с этим связан образ вдохновенного поэта, художника, — творца… «Великое и таинственное искусство, вводящее все существующее в форму красоты», это был для Соловьева последний, завершающий и высший, момент искомого синтеза. «Полная же истина мира — в живом его единстве, как одухотворенного и богоносного тела…»
В таинствах Церкви Соловьев видел преображение этой естественной «теургии», так что «цельная эстетика» и должна была быть, по его замыслу, именно философией христианских таинств («там будет о семи таинствах, под влиянием которых, после примирения Церквей, весь мир переродится не только нравственно, но физически и эстетически», передает Леонтьев предположения Соловьева о недописанной части «Критики отвлеченных начал»). И вот «теургический» момент органически вводится в состав теократического синтеза. Преображение или одухотворение самой видимой природы есть задача и будет достижением «свободной теократии…»
Под библейским влиянием у Соловьева вычерчивается в мысли образ пророка…
Это есть высшая и самая синтетическая власть, «как полнейшее выражение богочеловеческого сочетания, как настоящее орудие Грядущего Бога». В пророческом служении Соловьев всегда подразумевал и «теургический» мотив…
Так слагалась у него эта трехчленная схема «вселенской теократии», в которой тройственность властей соответствует троякому измерению времени, — прошедшему, настоящему и будущему. И все эти времена объединяются в некой таинственной современности…