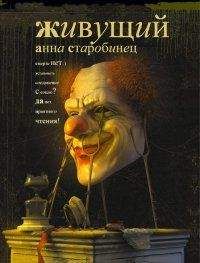Однако вернемся к прошлому. История, при близком рассмотрении, вызывает два несходных чувства. Во-первых, преклонение перед людьми, не просто жившими в черные и тяжелые эпохи (а других эпох нам известно не так много), но, несмотря на это, сумевшими, помимо выполнения тусклой поденной работы, все время создавать что-то вечное. Во-вторых, презрение по отношению к человеческому обществу, к созданным им инструментам и структурам, к образу действия людских масс, раз за разом повторяющих те же ошибки на протяжении сотен и тысяч лет. К социальному организму человечества, почти не демонстрирующему способности к обучению, хотя бы на уровне, присущем почти любому ребенку. Здесь заметим, что общество-то состоит из тех самых обучаемых индивидуумов. Это приводит к неоднократно описанному противоречию: общественная и личностная сущности человека сильно различаются[205]. Более того, несмотря на хорошо известные примеры деградации некоторых особей, традиция предполагает позитивную эволюцию отдельной личности в течение ее земного существования. Так, кстати, возникает уважение к мнению и суду старших, свойственное всем народам. Считается, что они мудрее молодых. Почему? Потому что опытнее, потому что понимают: в жизни есть множество сложных проблем, запутанных и отнюдь не черно-белых. Конечно, даже коллективный разум старейшин не может распутать все загадки, поставленные бытием, но иногда ему это удается. Иначе такой механизм решения нелегких вопросов не родился бы и не выжил в течение долгого исторического времени.
Иначе обстоит дело с позитивной эволюцией целого общества. Социальные организмы человечества упорно ищут самого простого пути — энергии затратить поменьше, а получить побольше. Мудреть и усложняться — таких приоритетов ни у кого нет, иные правители могут пойти по этому пути, но общество — никогда. Обществу нужно, чтобы его не трогали, ему нужны стабильность и прогнозируемость. Отдельное поколение может быть сорвано с места под давлением могучих обстоятельств и в борьбе с ними совершить невероятное[206], но уже дети героев начинают транжирить отцовское добро и, бывает, вырождаются с невероятной скоростью.
Когда какой-нибудь народ вдруг создает достаточно тонкий и прочный общественный механизм, выдерживающий натиск новых времен и несомых ими неожиданностей, то это прежде всего ведет к умопомрачительной гордыне представителей оного народа. Причем самодовольно раздувают щеки именно те граждане, которые не имеют никакого отношения ни к построению, ни к функционированию данной социальной структуры. Вслед за чем используют дарованное предками государственное чудо для создания какой-нибудь громадной империи, объясняя ее могущество своей богоданностью и боговдохновенностью[207]. В итоге ничего хорошего не выходит. Отдельные талантливые граждане такой державы, пользуясь общим уровнем образования и благосостояния, сочиняют эпические поэмы, симфонии, открывают электричество и большой круг кровообращения, не желая при этом участвовать в управлении государством, становящемся все более и более грязным ремеслом. Государство же от такой напасти начинает деградировать, постепенно переходя в руки все менее компетентных людей. Потом в один прекрасный день империя рушится (часто не без помощи соседей, озверевших от многовековой прививки комплекса неполноценности). Поэмы и медицинские трактаты уничтожаются, и история начинается заново.
Добавим к этому весьма несовершенный механизм передачи знаний, т. е. сохранения накопленных интеллектуальных ценностей[208]. Совсем обойтись без передачи знаний сложно — такое общество быстро умрет. Но как их передавать, в каком количестве? И все ли имеют право на знание? После того как был изобретен главный механизм накопления и сохранения знаний — письменность, люди начали делиться на имеющих к ней доступ и не имеющих. С одной стороны, появилась еще одна возможность расслоения человеческого общества, с другой — она не вполне совпадала с существовавшими доныне социальными загородками — политической властью или богатством. Поэтому грамотные или владеющие знанием стали использовать его для компенсации отсутствия прочих статусных качеств (той же власти), дабы занять как можно более высокое общественное положение. Верхи же общества, столкнувшись с появлением на рынке новой, неовеществленной материи, попробовали овладеть знанием путем его покупки или силового контроля (и пытаются до сих пор).
Из-за всего этого человечество с самого начала своей истории затрудняло доступ к мудрости, разрешая его только очень ограниченному кругу посвященных. Такая ситуация существовала вплоть до последнего времени (и еще далеко не изжита), несмотря на то что история уже многократно показала: чем шире распространение знания, чем более всеобъемлющ круг допущенных к нему, тем устойчивей общество, тем культурно значимей его цивилизация. Нельзя сказать, что этот урок в должной мере усвоен — вновь и вновь во всех сферах интеллектуальной жизни проявляется стремление к эзотеризму. Знание при подобном подходе рассматривается исключительно как форма богатства, и чем меньше людей им владеют, тем выше стоимость знатока. Поэтому на протяжении почти всей истории библиотеки были частными или малодоступными, а многочисленные корпорации, цеха и братства отстаивали свои секреты с помощью законов, тайных языков и закрытых собраний, упорно не желая понять, что в итоге сами окажутся среди пострадавших.
Нет, последнее все-таки не совсем верно. Часто по счетам предков платят потомки — всего лишь одно-два поколения спустя. Предки же к тому моменту уже давно находятся в иных мирах и не могут узнать о плодах своих ошибок. Они умирают в достатке и довольстве, не подозревая о том, что не за горами буря, которая разрушит пышные усадьбы и разметет фамильные склепы. Но стоит ли пытаться предвидеть то, что произойдет после нас? Выполнимо ли это? Справедливо ли упрекать общество за отсутствие подобного предвидения? И возможно ли заставить человека думать о будущем — не его собственном, частном, но общем — будущем совершенно абстрактного человечества? Как уговорить его заботиться о жизни далеких потомков?
Ведь человека в первую очередь интересует он сам и (иногда) его ближайшие родственники. Как правило, ради достижения личного благополучия, личного успеха он и взрослеет с возрастом — т. е. мудреет. Даже если сам не считает эту причину побудительной. Безусловно, успех необязательно имеет денежное или властное выражение — кому-то важнее быть уважаемым или любимым согражданами и соседями, но это сути дела не меняет. При этом человек — имея в виду большинство особей нашего вида, а не великих мыслителей — становится все более зрелым не вследствие абстрактных раздумий, а благодаря своему опыту, собственным впечатлениям. Именно жизненная практика во многом формирует отдельно взятую личность.
И от каких-таких впечатлений человек вдруг станет заботиться о далеком будущем? Вряд ли подобные способности можно унаследовать биологически; в генах закрепляется только необходимость заботы о ближайшем потомстве и не более того. Заглядывать на поколение-другое вперед человека можно только обучить, и только опираясь на опыт человечества. Коллективный, социальный опыт может быть закреплен только на социальном, надличностном уровне. А если информацию о судьбах внешнего мира человеку не предоставляют, а истории — летописи общественного опыта — обучают в соответствии с догмами, приятными правящей династии? Или, что ненамного лучше, согласно односторонней моде, охватившей цех учителей в данный момент времени? Вот так получается, что личный опыт индивидуума — правдив или, по крайней мере, объективен и зачастую ведет к его совершенствованию. Опыт же общественный, сообщенный человеку посредством кривых зеркал и кристаллов ущербной мудрости, — ложен или, в самом лучшем случае, весьма необъективен, и в итоге ведет к краху общества, состоящего из индивидуумов с фальшивым общественным опытом. Никакой позитивный личный опыт не компенсирует дефектов социального сознания.
Вышесказанное имеет прямое отношение к тому факту, что человечество уже примерно четыре тысячи лет пытается нащупать относительно разумные механизмы общественной жизни. За это время было сделано, забыто и сделано заново несколько замечательных социальных открытий. Но на самом деле мы не так уж далеко ушли. Оптимист укажет на выдающиеся достижения конца XVIII–XX вв., но не забудем, какой страшной ценой они достались человечеству. Многие из этих достижений были известны и раньше, но оказались утеряны. Кто знает, не откажется ли человечество от них снова, как когда-то, — легко и бездумно?
Поэтому не будем чересчур рьяно судить древних: они делали самые первые шаги в социальной истории человечества и поначалу искали самых простых путей. Оттого сила любого государства всегда была в армии, недостаток богатств восполнялся грабительской войной, а рабство являлось естественным и весьма выгодным институтом. Никто и предположить не мог, что армия, поставленная во главу угла, рано или поздно начнет сосать соки из собственной страны, что разумно организованные торговля и налоги намного выгоднее и безопаснее нападения на соседей, а рабство обусловливает существование чисто экстенсивного хозяйства, т. е. приводит к вечной экономической стагнации. Заметим, что первые две идеи за три — три с половиной тысячелетия добрались до сознания государственных мужей, а вот рабство уничтожила отнюдь не экономическая необходимость. Рабовладельцев всех времен стагнация очень даже устраивала на уровне индивидуальном, а об общественном благе они не особо пеклись. Поэтому рабство (и это гораздо более невероятно, чем мы себе можем представить) погибло исключительно из соображений духовных, этических. Но данных событий мы коснемся как-нибудь в другой раз, а пока вернемся на Передний Восток и попробуем хоть немного заглянуть в черные дыры истории, в эпоху первых проб и ошибок человечества, о которых мы почти ничего не знаем.