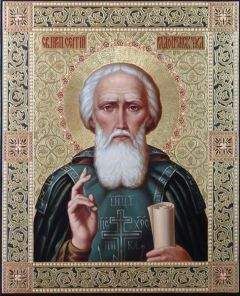Ты скажешь: каким образом успею я присмотреть за всем этим — я, женщина светская, в таком многолюдстве, какое в Риме? В таком случае не бери на себя бремени, превышающего твои силы, а, отняв от груди, как отнимали Исаака, и одев ее, как Самуила, отошли к бабке и тетке. Отдай драгоценнейший камень на ложе Марии, положи его в колыбель Иисуса, плачущего Младенца. Пусть она воспитывается в монастыре, вступит в лики дев, не знает, что такое клятва, считает ложь святотатством, не имеет понятия о мире, живет по–ангельски, будет в теле так, как бы без тела, весь род человеческий воображает похожим на нее и, чтобы не распространяться о прочем, пусть освободит тебя, по крайней мере, от трудности присмотра и опасности охранения. Для тебя лучше скучать в ее отсутствии, чем бояться при всяком случае: что–то будет говорить она, с кем будет говорить, кому она кивает, на кого посматривает с удовольствием? Отдай малютку Евстохии, каждый крик ее — мольба к тебе об этом. Отдай Евстохии спутницу в святой жизни, будущую наследницу. Пусть малютка увидит ее, полюбит ее, удивляется ей с первых лет — ей, чья речь, походка, одежда служат наукой добродетелей. Пусть перейдет она на ложе бабки, и бабка пусть повторит над внучкой то, что сделала для дочери; она долгим опытом научилась воспитывать, охранять и учить дев, и в стократный венец ее ежедневно вплетается целомудрие. Счастливая дева, счастливая Павла Токсоциева! Через добродетели бабки и тетки она благородна по святости еще больше, чем по происхождению. О, если бы случай привел тебя увидеть твою свекровь и родственницу и обратить внимание на великие души в их маленьких телах! Я не сомневаюсь, что, по врожденному тебе целомудрию, ты предупредила бы дочь и первому Божиему приговору предпочла бы второй евангельский закон. Да ты перестала бы желать более других детей, но скорее принесла бы в жертву Богу саму себя. Но поскольку есть время обнимать, и время уклоняться от объятий (Еккл. 3, 5), и жена не властна над своим телом (1 Кор. 7, 4), и в каком [звании] кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом (1 Кор. 7, 24), и тот, кто под ярмом, должен бежать так, чтобы впряженного вместе с ним не оставлять в грязи, — то перенеси на детей все, что при других обстоятельствах ты выказала бы на себе. Анна, отдав в скинию сына, обещанного Богу, уже не брала его обратно: она находила непристойным, чтобы будущий пророк возрастал в доме ее, потому что желала иметь и других еще детей. Кроме того, зачав и родив, она не осмелилась прийти во храм и явиться перед лицом Божиим с пустыми руками прежде, чем воздаст должное; когда же принесла она такого рода жертву, — возвратившись домой, родила пять детей себе, потому что перворожденного родила Богу. Удивляешься счастью святой жены? Подражай ее вере. Если пришлешь Павлу, даю торжественное обещание, что сам буду лично и учителем ее, и воспитателем. Я буду носить ее на руках; хоть и старик — буду лепетать по–детски; далеко превзойду философа светского, потому что буду учить не царя македонского, имеющего погибнуть от яда вавилонского, но рабу и невесту Христову, чтобы представить ее в Небесные Царства.
Врачи, называемые хирургами, почитаются жестокими, и они несчастны. Не несчастие ли соболезновать о чужих ранах, без милости резать мертвые члены, без содрогания совершать операцию, которая приводит в ужас страждущего, и за это считаться врагом? Такова природа человеческая; для нее горька истина, а пороки кажутся ей приятными. Исаия не стыдился ходить нагим во образ будущего плена (см.: Ис. 20, 2–3). Иеремия из среды Иерусалима посылается к месопотамской реке Евфрату, чтобы среди враждебных народов, где живет ассириянин и находятся полчища халдейские, положить свой пояс на истление (см.: Иер. гл. 13). Иезекииль получает приказание есть хлеб, приготовленный из разных овощей и обрызганный пометом человеческим, потом коровьим (см.: Иез. гл. 4), и без слез видит смерть своей жены (см.: Иез. гл. 24). Амос изгоняется из Самарии (см.: Ам. гл. 7).
За что же? Конечно, за то самое, что врачи духовные, рассекая язвы грехов, зовут к покаянию. Апостол Павел говорит: Я сделался врагом вашим, говоря вам истину (Гал. 4, 16). И так как речи Спасителя казались жестокими, то многие из учеников Его пошли вспять. Неудивительно же и то, что мы, восставая против порока, оскорбляем людей.
Я намерен отыскать зараженные и страждущие зловонием носы — так пусть и боится тот, у кого заражен нос. Я восстаю против пустого карканья вороны— так пусть и смекнет ворона, что она пустая болтунья. Как будто только и есть один человек во всем Риме с носом, испорченным ранами разврата? Как будто один Оназ Сегестан, раздув щеки, бросает из них слова, напыщенные и пустые, как пузырь? Я говорю, что злодейством, клятвопреступлением, ложью некоторые лица купили себе невесть какое достоинство. Что нужды в том, который чувствует себя невинным? Я осмеиваю адвоката, который сам имеет нужду в защитнике, смеюсь над красноречием, которое стоит два гроша, — какая нужда в том тебе, который так красноречив? Я восстаю против пресвитеров–взяточников; тебе, богачу, зачем озлобляться? Мне угодно смеяться над масками, ночными совами, нильскими чудовищами; так все, что бы яни сказал, ты думаешь, что это — против тебя? Не кажется ли тебе, что ты хорош потому, что носишь счастливое имя (Onasus — от : помогать, пользу приносить)? Но дают и роще название светлой (lucus), хотя она отнюдь не светит; саду имя парка (parcae), хотя он ничего не щадит; фуриям — евменид, несмотря на то, что они нисколько не благосклонны; и в народе зовут эфиопов серебряными. Если ты сердишься, когда описывают предметы скверные, так я воспою тебя с Персием:
Пусть царь и царица
в зятья тебя ищут,
Пусть юные девы тебя завлекают,
Пусть все, что топчешь, становится розой, —
однако я дал тебе совет скрыть нечто, чтобы казаться еще лучшим. Если бы не видно было носа на твоем лице и не слышен был звук твоего голоса, тогда бы ты мог казаться и пригожим, и красноречивым.
Обыкновенно телесное отсутствие восполняется духовным общением, и в этом отношении каждый поступает согласно со своими преобладающими склонностями. Вы присылаете дары, мы отвечаем благодарственным посланием. Но при этом, так как дары принадлежат сокровенным девам, мы хотим показать, что в самых этих подарочках заключается некоторый таинственный смысл. Вретище есть символ молитвы и поста. Кресла означают то, что дева не должна делать ни шагу вон из дому. Восковые свечи напоминают, что с возженными светильниками нужно ожидать Пришествия Жениха. Чаши означают умерщвление плоти и дух, всегда готовый к мученичеству, ибо чаша Господня упоявающи мя, яко державна (Пс. 22, 5).
Для непокровенных женщин маленькое опахало для прогнания небольших насекомых имеет то возвышенное значение, что скоро надобно оставить роскошь, потому что убиваемые мухи уничтожают запах благовония. Вот символы для девы и для матроны. А для нас ваши дары имеют обратный смысл, именно: праздным свойственно сидеть, кающимся — лежать во вретище, пьющим нужно чаши иметь. От ночного же страха и вследствие того, что дух всегда возмущается злой совестью, позволяется и восковые свечи зажечь.
Я был бы неразумен, если бы думал, что я в состоянии воздать тебе благодарность. Один Бог может воздать твоей святой душе то, чего она заслужила. Я же, недостойный, не мог никогда ни думать, ни желать, чтобы ты оказала мне такую любовь о Христе. Впрочем, хотя некоторые и считают меня злодеем, покрытым всякими преступлениями, и хотя по грехам моим и этого даже мало, все–таки ты хорошо поступаешь, что даже и худых в душе твоей считаешь добрыми. О чужом рабе опасно судить (см.: Рим. 14, 4), тем более непозволительно говорить худое о праведном. Да, придет тот день, когда и ты вместе со мной поскорбишь о том, что немногие горели такой любовью.
Я человек порочный, переменчивый и непостоянный, лживый и обольщенный коварством сатаны. Что же безопаснее — верить ли порицаниям, или предполагать невинность, или же совсем не желать верить даже виновности? Некоторые целовали мои руки и в то же время змеиными устами порицали: на губах скорбь обнаруживали, а в сердце радовались. Господь видел и смеялся им, и меня, раба Своего, соблюдал с ними до будущего Суда. Тот походку и улыбку мою порицал, тот над лицом моим издевался, этот в простоте моей видел нечто другое.
Я три года почти прожил с ними. Меня окружала густая толпа дев — и я, сколько мог, часто беседовал с ними от Божественных книг. Частое повторение таких уроков породило короткость, короткость установила доверие. Пусть же скажут, какие иные были у них чувства в моем присутствии, кроме чувств, приличных христианину? Взял я деньги у кого–нибудь или не отвергнул больших или малых подарков? Звучала ли в моей руке чья–нибудь медь? Позволил ли себе когда–нибудь двусмысленную речь или наглый взгляд? Обращают внимание только на то, что я мужчина, и это с тех пор, как Павла отправлялась в Иерусалим. Но пусть поверили лжецу; почему же верят его отрицанию? Ведь обвинитель и потом защитник — один и тот же человек, и, конечно, он говорит правду, скорее всего, под влиянием мучений, чем в веселую пору. Видно, вымыслу легче верят, его охотно слушают и даже побуждают придумать его, когда он еще не существует.