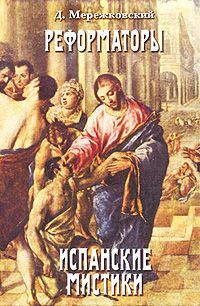Каждый человек в отдельности должен быть «послушен, как труп», perinde ас cadaver, по учению Лойолы, а по учению Кальвина, весь народ – все человечество. Страшная цель у обоих одна: душу человека опустошить от всего человеческого так, чтобы в нем мог обитать Бог. Верно понял Боссюэт совершенное согласие протестантов и католиков в необходимости насилья против еретиков.[44] Вот плачевное, Князю мира сего угодное «Соединение Церквей».
Так же, как св. Доминик в XIII веке, Кальвин в XVI-м «горит святым желанием сокрушить челюсти еретика и вырвать из них добычу».[45] В новой Женевской Инквизиции точно так же, как в старой Испанской, Церковь предает осужденного еретика на сожжение власти мирской, потому что «духовная власть никого не должна казнить смертью». В 1229 году император Фридрих объявляет ересь «государственной изменой», «оскорблением величества», а в 1424 году, в делах с учениками Яна Гуса, борьба с ересью объявлена «охраной человеческого общества», conservatio societatis humanae.[46] To же сделает и Кальвин.
Новая Женевская Инквизиция учреждается с благословения Кальвина так же, как старая, Испанская – с благословения Папы – для искоренения ересей «посредством огня», per via de fuego. «Дело Веры», actos de fè, в обеих Инквизициях одно – костер. «Наша цель – оказывать великое милосердие к еретикам, избавляя их от огня, если только они покаются», – говорит Торквемада, и повторяет Кальвин. Это «великое милосердие» заключается в том, что палач удавливает петлей покаявшегося еретика до его сожжения на костре, что делается в обеих Инквизициях, Испанской и Женевской, почти одинаково. Торквемада, провожая осужденных на костер, плачет; так же будет плакать и Кальвин.[47]
«Не сам ли Бог, нашими руками, вешает, четвертует, сжигает бунтовщиков и рубит им головы?» – говорит Лютер; то же мог бы сказать и Кальвин, только заменив слово «бунтовщики» словом «еретики». «Да падет же их кровь на меня, и я вознесу ее к Богу, потому что это Он повелел мне говорить и делать то, что я говорил и делал».[48] Кальвин этого не говорит, но чувствует и делает разумно, спокойно. Лютер искупает свой грех тою мукой, о которой скажет: «Я никому, ни даже злейшим врагам моим, не пожелал бы страдать, как я страдаю». Кальвину этого ничем не нужно будет искупать. Лютер от этого умирает, а Кальвин этим живет. Главная ошибка его в том, что насилье принято им, как вечная правда Божия, как святость, не антиномично и трагично, а благополучно и безболезненно, как должное, и так, как будто вовсе не было Голгофы – величайшего насилья, совершенного людьми над Сыном Божиим.
Самое страшное из всех совершенных Кальвином «Деяний Веры» – Actos de fè – сожжение Михаила Сервета. Но прежде чем судить Реформу за этот костер, надо вспомнить тридцать тысяч костров Св. Инквизиции в Испании и пятьдесят тысяч – в Нидерландах. «Я более возмущен одною казнью Сервета, чем всеми жертвами Испанской Инквизиции», – скажет Гиббон и будет прав, потому что Реформа для того и началась, чтобы потушить костры Инквизиции.[49]
«Светом истины рассеивается мрак заблуждений, а не светом костров», – это общее место Кастеллио сделается огненным, благодаря огню Серветова костра.[50] «Я должен сам услышать, что говорит Бог». «Мысль, будто бы вера в Евангелие подчинена папской (или Кальвиновой) церковной власти, есть превратная, еретическая мысль».[51] Церковь от Христа, а не Христос от Церкви – этот новый, освобождающий религиозный опыт Лютера Кальвин забыл: у него Христос даже не от Церкви, а от полуцеркви, полугосударства – Женевской Консистории.
Жан-Жак Руссо выйдет из Кальвина, а из Руссо – Робеспьер. В опыте Женевской теократии видна нерасторжимая связь Реформации с Революцией. Нож гильотины выкован на огне Серветова костра.
Все это – оборотные стороны медали, но есть и лицевая, и, чтобы верно судить о ней, надо помнить и об этой.
«Свобода[52] – чудный дар Божий», – учит Кальвин. Из всех стран мира в Женеву собираются люди, которым свобода дороже отечества. Всем государственным правлениям Кальвин предпочитает народовластие, республику. «Избирательное право народа священно». Новые народные правители в Женеве – такие же поставленные Богом «Судьи», Judices, как в древнем Израиле. «Сволочью могут быть короли, а простые люди – детьми Божьими, определенными избранниками». «Богу служить – вот истинная свобода», Deo servire vera libertas. «Чем ниже склоняется человек перед Богом, тем выше возносится над людьми».[53]
Habeas Corpus выйдет сначала из Женевской, а потом из Английской Реформации. Джон Нокс (John Knox), ученик Кальвина, шотландский реформатор, основатель Пресвитерианской Церкви, хочет, чтобы «все государи поняли наконец, что Евангелие есть высший закон для христианского человечества, и чтобы слова молитвы Господней „Да приидет Царствие Твое“ не были только пустыми словами».[54] Кромвель будет тоже бороться за Теократию и Демократию вместе, потому что это для него не два понятия, а одно.
«Праздновать должны бы Женевские граждане день рождения Кальвина и день его прибытия в Женеву как два счастливейших дня своей республики», – скажет Монтескье.[55]
Кальвин, основатель Женевской Теократии – кузнец всей будущей Европейской Демократии. Новую политическую свободу он выкует из древнего железа – Ветхого Завета – Закона.
Но вся политика у Кальвина – только выводы из его метафизики, чья главная движущая ось есть тот религиозный опыт, который он называет «Предопределением», Praedestinatio.
Что такое Предопределение? Вот как отвечает Кальвин на этот вопрос: «Предопределением мы называем вечную в судьбе каждого человека волю Божью, потому что не все люди созданы с одинаковой целью, но одни – для вечной жизни, а другие – для осуждения вечного».[56] Это значит: Богом разделяется все человечество на две неравные части – одну, неизмеримо меньшую – не по заслугам наверное спасающихся, а другую, неизмеримо бóльшую – наверное без вины погибающих; на получивших даром Благодать и на лишающихся ее также даром. «Преданы злой воле своей осужденные потому, что Бог в праведном, хоть и непостижимом, суде Своем хотел умножить славу Свою». «Первый человек пал, потому что этого хотел Бог, а почему хотел, мы не знаем; знаем только, что не хотел бы, если бы не предвидел, что этим слава Его будет умножена». «Осуждающих Бог попускает, но и обрекает на гибель, потому что слово Божие есть высшая цель всего творения; Бог же прославляется не только «милосердием Своим, но и в правосудии». Странно, что люди могут умножать и умалять «слово Божие», что Бог, как будто, нуждается в человеческой славе – только боится, что вечное осуждение невинными может оказаться не «славой» для Него, а позором.
«Слова Божия не слышат осужденные, или, слыша, только ожесточаются, потому что Бог не определил их к спасению. Злую волю их Он мог бы изменить, потому что Он всемогущ; но Он этого не хочет. Почему? Мы этого не знаем и не должны испытывать больше, чем нам должно знать». «Я говорю[57] с Августином, что Бог создал тех, о которых Он знал наперед, что они погибнут, и что Он это сделал, потому что так хотел. А почему хотел, мы не должны спрашивать и понять не можем».[58]
«Божье правосудие», в устах Кальвина – только пустое, ничего не значащее слово, как верно замечает один исследователь. «Если Бог, без всякой понятной для нас причины, одних из находящихся в одинаковом состоянии людей оправдывает, а других осуждает, то утверждение Кальвина, что Бог правосуден, в каком-либо для человека понятном смысле, недоказуемо». «Кальвин допускает (так же, как Лютер), в своем Богооправдании, Теодицее, двух противоречивых Богов»: Бога и Противобога – диавола.[59]
«Славе Божьей», «gloria Dei», служит гибель большей части невинно, от начала мира, осуждаемого человечества; это самая чудовищная из всех человеческих мыслей», – верно замечают и другие исследователи.[60]
«Бред сумасшедшего не порождал ничего более ужасного». «Если в это поверить, то можно с ума сойти от отчаяния».[61]
Кажется, сам Кальвин это иногда чувствует: «Я признаю, что этот приговор ужасен, Decretum guidem horribile fateor».[62]
Может быть, логика его не так совершенна, как это кажется ему самому и другим; но даже совершенная логика не спасла бы его от этих чудовищных выводов, потому что отвлеченнейшие мысли его страстны, а логика на службе у страсти так же опасна, как нож в руке сумасшедшего.
«Предопределение есть лабиринт, из которого ум человеческий не может найти выхода», – говорит Кальвин теми же почти словами, как св. Августин: «Я искал мучительно, откуда зло, и не было исхода».[63] Кружатся, кружатся оба, путаются в противоречиях, как в лабиринтных извилинах. Противоречие свободы и принуждения – не только в человеке, но и в Боге. «Люди грешат необходимо, потому что по своей природе они грешны». Зло человек делает по своей воле, потому что воля всегда (необходимо) склоняется к злу». «Вольно грешит человек». «Бог не хочет от нас послушания рабского, но хочет свободной воли». «Человек не может не только делать, но и желать добра».[64]