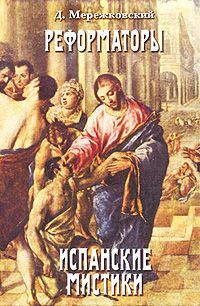12
Кем посеяны «плевелы» – созданы те, кто осуждены на вечную смерть? Два ответа у Кальвина: созданы Богом – созданы диаволом; «Есть такие семена в мире, которые не Богом посеяны». Эти два противоречивых ответа – две стены одного лабиринтного хода, который приводит Кальвина к Минотавру чудовищу – Богу Диаволу.
«Зачем Бог создал тех, о которых знал наверное, что они погибнут?» На этот незаглушенный, потому что от самого Бога идущий, вопрос человеческой совести у Лютера Кальвин отвечает вместе с ал. Павлом: «А ты кто, человек, что споришь с Богом?»[77] (Римлянам, 9:20).
«Я – сын Отца моего, по свидетельству Сына Божия», – мог бы ответить Павлу и Кальвину всякий верующий; мог бы ответить и так же, как Иов Праведный:
Я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом.
И если бы он так ответил, то был бы оправдан Богом вместе с Иовом:
Горит гнев Мой на вас за то, что вы говорили обо Мне не так верно, как раб Мой Иов (Иов, 42:7).
Ближе к Богу и вернее судит о нем вечно-мятежный и освобождающийся раб, Иов, чем друзья его вечно-покорные и чтó такое свобода не знающие рабы.
Главный грех Кальвина в созерцании – догмат о Предопределении, так же как в действии, Теократии, – отказ от свободы.
«Будущее меня страшит; я не смею думать о нем, – признается он.
– Если только Господь не сойдет опять на землю, то варварство поглотит нас всех».[78] В этом страхе будущего у Кальвина – страх свободы. Тот же страх и у Лютера, но по другой причине: внешнего восстания человеческой личности – того, что люди наших дней называют «социальной революцией», – страшится Лютер, а Кальвин – внутреннего восстания человеческой личности – того, что люди наших дней называют «человеко-божеством». «Духом божеской, титанической гордости возвеличится человек и явится Человекобог» (Достоевский). Кальвин как будто уже предчувствует то, что у Гёте скажет Богу Прометей:
Здесь я сижу и людей образую,
Племя, подобное мне,
Да плачут они и страдают
И радуются так же,
И так же Тебя презирают,
Как я.
Hier sitz'ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei:
Zu leiden, zu weinen
Und sich zu freuen
Und dein nicht zu achten,
Wie ich.
(Prometeus)
«Богу единому слава! Solo Deo gloria!» – спешит сказать Кальвин, как будто уже предчувствует, что скоро будет сказано: «Слава Человеку единому!» «Должное получает Бог только тогда, когда человек уничтожен», – спешит и это сказать, как будто уже предчувствует, что скоро будет сказано: «Должное Человек получает только тогда, когда Бог уничтожен».[79] Та горячечная рубашка, которую хочет надеть Кальвин на титана Прометея, – все будущее, возмутившееся против Бога человечество, – и есть «ужас Предопределения». Но это, конечно, покушение с негодными средствами: Кальвинову горячечную рубашку разорвет, как паутину, бешеный титан.
Ужас будущего гонит Кальвина к прошлому: он хочет обратить течение времени вспять – вернуться от Нового Закона к Ветхому, от будущей свободы – к бывшему закону.
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня… проповедывать пленным освобождение… отпустить измученных (рабов) на свободу (Лука, 4:18).
Этого Кальвин как будто никогда не слышал, и для него Христос Освободитель как будто никогда не приходил. Сам того не сознавая и думая, что служит Христу, он хочет сделать так, чтобы Христос был, как бы не был; думая, что «славит Бога», хочет опрокинуть весь установленный Богом порядок вещей во времени, как бы вывихнуть его чудовищным вывихом, совершая в этой невозможной попытке не нравственное, а метафизическое преступление.
«Люди ничего не могут делать, кроме зла», – учит Кальвин.[80] Но вот «незаписанное» в Евангелии слово Господа, Аграфон, – слово Сына в Духе:
Люди, помогайте Богу, как Сын Марии сказал: «Кто Мне в Боге помощник?» И ученики сказали: «Мы».[81]
Людям помогает Бог – это известное, прошлое, а будущее, неизвестное: Богу помогают люди, не как рабы – господину, а как свободные – Свободному.
Кальвин не понял, что величайший из всех даров Божьих людям – свобода, и что в ней одной – истинная «слава Божия» – лучезарнейшее сияние лица Божьего в лице человеческом.
«Действие его до наших дней продолжается», – говорит Гёте о Лютере; можно бы сказать то же и о Кальвине.[82] Если так, то мы можем ничего не знать о нем, но он все-таки входит в наш духовный состав, как соль – в состав человеческой крови. И если для того, чтобы судить человека, надо знать, что он сделал, а дело Кальвина не кончено, то он все еще судится, и каков будет приговор, неизвестно. Не был никто ненавидим больше, чем Кальвин, но и любим тоже; сила, притягивающая к нему людей, равна силе отталкивающей, и это не только при жизни, но и после смерти.
«Маленький французишка», «низкой души человек», – думают о нем женевские Вольнодумцы, Либертинцы (Libertins), ненавидевшие его за то, что он будто бы отнял у них свободу и сделал их изгнанниками в их собственном отечестве. «Стольким величьем запечатлел его Бог», – скажет один из членов Женевского Верховного Совета в надгробной речи над Кальвином.[83] «Память этого великого человека будет почитаема, а пока не угаснет в людях любовь к свободе и к отечеству», – скажет Руссо.[84] Два приговора в делах человеческих, в политике, и в деле Божьем, в религии – тоже два.
«Я и сам не знаю, каким духом я обуреваем, – Божьим или бесовским», – недоумевает Лютер.[85] Кальвин не сомневается, что им владеет Дух Божий. Но если сам он это знает о себе, то другие этого не знают о нем.
Зло и добро – последнее «да» и последнее «нет», сказанные, может быть, не только христианству, но и самому Христу, смешаны в Кальвине так, что, смотря по тому, кто и откуда судит его, – он осужден или оправдан. Самое глубокое существо его меняется на глазах у людей, подобно двуличневой ткани, отливающей двумя цветами – то голубым, как небо, то красным, как пламя ада.
«Сердце мое сокрушенное приношу я Господу в жертву», – говорит он в одну из решающих минут жизни.[86] «Я во Христе жил и во Христе умираю», – скажет в смертный час, когда люди не лгут.[87] «Я прожил с ним шестнадцать лет и могу засвидетельствовать, что каждый христианин нашел бы в этом человеке совершенный образец христианской жизни», – вспоминает о нем первый ученик его и духовный наследник, Теодор Бэза.[88]
Вот один из двух цветов двуличневой ткани – голубой, как небо, а вот и другой – красный, как пламя ада. «Кто посмеет сказать, что этот палач и убийца – служитель Церкви Христовой?» – воскликнет Сервет перед тем, как взойти на костер.[89]
«Дух Антихриста живет не только на берегах Тибра, но и на берегах Лемана», – скажет через два века после Кальвина протестант, Гуго Гротий.[90]
Я знаю, как диавол искушает,
Как ловко он прячет рога
Под римскою белой тиарой,
Под черным женевским плащом.
И прав я, когда ненавижу
Всех этих убийц-изуверов,
Служащих огнем и железом
Великому Богу любви.
Je sais que, souvent, le Malin
A caché sa queue et sa griffe
Sous la tiare d'un pontife
Et sous le manteau de Calvin
Je n'ai point tort quand je déteste
Ces assassins religieux,
Employant le fer et les feux
Pour servir le Père céleste —
скажет Вольтер и подумает, что приговор его над Кальвином окончателен. Но и это опять только один из двух приговоров, а вот другой: «С виду казался он суровым, но в более близком общении не было человека нежнее, чем он», – свидетельствует все тот же проживший с Кальвином шестнадцать лет «в близком общении» Теодор Бэза.[91] «Я знаю, мой друг, твою природную нежность; многие тебя считают даже слишком чувствительным», – пишет друг и сподвижник Пьер Вирэ.[92] «Ты знаешь неясность, чтобы не сказать слабость, моей души», – признается тому же Вирэ сам Кальвин.[93]
«Сколько лет желал я тебя увидеть и как молился об этом!» – пишет ему, точно влюбленный, бывший инок Августинского Братства, Жан де л'Эспин (l'Espine). «Когда же, наконец, я увидел тебя, то не мог оторвать глаз моих от лица твоего и насытиться им. Некая таинственная сила в речах твоих и в голосе влекла меня к тебе, и я полюбил тебя так, как никогда никого не любил».[94]
Все, кто ближе подходит к нему, более или менее чувствуют в нем эту страшную для одних, а для других пленительную, как бы нездешнюю, «таинственную силу» – «магию». «Он – ученик Симона Мага», – обличает его Сервет на суде. «Должно вам изгнать его из вашего города, как злого колдуна и мага».[95] «О, как бы я хотел, чтобы вся твоя магия погибла с тобой, еще во чреве матери твоей!» – говорит он в лицо самому Кальвину; это значит: «Лучше бы тебе и на свет не рождаться, проклятый колдун!»