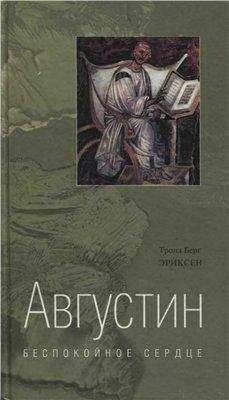Если в этом изложении учения Августина об ангелах кто–то усмотрит отстраненность или иронию, они непреднамеренны, хотя и неизбежны. Разумеется, индивидуум обладает безграничными способностями к вере, однако Для каждой эпохи существуют свои ограничения. Если в IV веке положения, выдвигавшиеся Августином, обеспечили ему центральное место среди тех, кто полемизировал о Путях Провидения, то в наше время поборника тех же идей неминуемо сочли бы маргиналом. В связи с этим у меня возникает вопрос — скорее исторический, нежели богословский. Почему стало невозможно верить в ангелов? В эпоху, когда литературоведение, физика, астрономия, психология… да чуть ли не все науки порождают огромное множество понятий, которые выходят за рамки конкретного и поддающегося осязаемой проверке, почему в ангелов труднее поверить, чем в герменевтический круг, кварки, антивещество или неврозы?
Возможно, мы утратили способность читать религиозные тексты так, как это следует делать. В соперничестве с прочими авторитетами церковно–религиозная традиция привыкла отстаивать свои истины в том же стиле, как доказывают свои историки или естествоиспытатели. Вместо того, чтобы спорить с Коперником и Галилеем, Ньютоном и Дарвином, Фрейдом и Моно, Церкви предпочтительнее было бы уделить внимание своеобразию собственных истин. Развернувшееся вовсю соперничество с современной наукой привело ее лишь к отходу от мира образов и личных переживаний. В результате место церковных обрядов заняли различные виды искусства, в которых теперь проявляет себя новая религиозность, нашедшая иные формы для применения своей фантазии, нежели жизнь в угоду Богу.
Так великие сочинения Августина проиграли битву за души. Он и проиграл не потому, что его тезисы утратили правдоподобие (правдоподобием они никогда не отличались), и не потому, что им недоставало теоретической отточенности (этого у них было с избытком), а исключительно потому, что, когда Церковь в своем стремлении оспаривать научные истины отказалась от опоры на воображение, Августиновы тезисы просто стало невозможно представить себе. Если Бог умер, в этом виноват не Августин, а те, кто лишает себя его интеллектуальных изысков, не признавая за богословами и философами того же авторитета, что и за представителями естественных наук. Августин мечтал о том, чтобы точные науки заняли подчиненное положение по отношению к религиозно–философским откровениям (О Троице, XII, 12 и 15). Эта мечта принадлежит прошлому, однако никому не возбраняется надеяться, что когда–нибудь в мире смогут сосуществовать самые разнотипные истины. История религиозной мысли помогает нам сохранять память о такой возможности.
***
Из Монцы ходит обшарпанный пригородный поезд на север, к озеру Комо. Он идет не напрямую в Лекко, а кружным путем, связывая с Миланом неказистые предместья и промышленные предприятия с дешевой рабочей силой. Протрясясь около часа, поезд доползает до Кассаго–и–Брьянца, который многие считают Кассициаком, где осенью 386 года Августин сочинял свои первые философские диалоги. На станции нет ни одного железнодорожного служащего, вход в туалеты замурован, но здания недавно отремонтированы за счет местного охотничьего союза, о чем сказано в специальной табличке. К станции примыкает территория какого–то промышленного объекта, а до центра отсюда, как мне подсказали, топать с километр без тротуара. Вообще–то туда изредка ходит автобус, но расписание его известно только местным жителям.
После пятнадцатиминутной прогулки с риском для жизни, в облаках пыли, которую поднимают проносящиеся мимо грузовики, я добираюсь до заурядного и довольно неказистого поселка на холме — в таких местах любили, спасаясь от летнего зноя, обосновываться римляне. С северной стороны открывается вид на заснеженную вершину горы Гринья в Бергамских Альпах и на Монте–Санто–Примо, возвышающуюся между двумя заливами озера Комо. Одна из основных улиц поселка носит название виа Сан–Агостино, по чему я догадываюсь, что попал туда, куда стремился.
В церквушке на гребне холма я обнаруживаю статуи Моники и Амвросия, под самым куполом, и крохотную часовенку с мрачными фресками, на которых изображены эпизоды из жизни Августина в Кассаго. Впрочем, главная здешняя достопримечательность находится за храмом — это заброшенный парк с развалинами и двумя высоченными пальмами, вероятно, призванными напоминать посетителям об Августиновой родине, Африке. Посреди парка — мемориальная плита, которую поставили в 1986 году в память событий, якобы происходивших в этих местах тысячу шестьсот лет тому назад. На огромном бронзовом барельефе — Августин с гусиным пером в руке, а сзади него, чуть справа, выглядывает из–за портьеры Мойика, как бы говоря: «Обед готов!» Августин, склонив голову набок, откликается вопросом: «Пожалуйста, можно я попишу еще немного?»
Высокопарная подпись к барельефу гласит, что Августин удалился сюда, на виллу Верекунда, дабы отдохнуть от «мирской суеты» (aestus saeculi) в обществе своих самых близких друзей. Разумеется, местные власти сделали трогательный вклад в споры о местонахождении античного Кассициака, однако едва ли его можно назвать слишком убедительным. На обратном пути я спрашиваю официантку в привокзальном баре, много ли туристов приезжает в Кассаго полюбоваться местом отдыха блаженного Августина. Она окидывает вызывающим взглядом мои черные туфли, темные брюки и синюю зимнюю куртку, на мгновение задерживается на обручальном кольце и отвечает: «Нет, только священники».
***
Теперь мне остается поблагодарить Яна Линдхардта, епископа Роскилльского, и моего коллегу Яна Шумахера за то, что они взяли на себя труд прочитать рукопись и высказать предложения по ее улучшению. Заслуживает благодарности и Оддмунд Йелде и как переводчик на норвежский десяти первых книг «Исповеди» (этот перевод используется в данной работе), и как эрудированный и неизменно старавшийся помочь преподаватель университета, которому я обязан своим знакомством с Августином. Я также благодарен Кнуту Улаву Омосу, в очередной раз проявившему себя замечательным издательским редактором и немало вдохновлявшему меня.
Малоя, 22 июля 2000 года Тронд Берг Эриксен
Глава I. Век Константина Великого
Если события IV века можно отнести на счет воли и решений одной личности, то такой личностью был император Константин Великий. В военном отношении он, придя к власти, совершил примерно то же, что некогда Цезарь. Константиново войско размещалось частично в Англии, а частично в долине Рейна, когда он задумал повести его против своих соправителей. Как ни отговаривали Константина, как ни предостерегали, он перевалил через Альпы и двинулся на Рим, где в 312 году наголову разбил у Мульвийского моста второго цезаря Максенция.
По причинам, в которых нам не суждено до конца разобраться, Константин полагал, что одержать эту победу ему помог христианский бог. За исключением гонений на христиан при императорах Деции (в 249–251 гг.) и Диоклетиане (в 303–305 гг.), некоторое время до прихода к власти Константина вокруг новой религии царило относительное затишье. Обращение же Константина в христианство поставит этот культ в центр государственного внимания. По утверждению императора и его приближенных, только христианскому Богу было под силу обеспечить salus publica (благо государства). Себя Константин называл servus Dei, или «раб Божий». Вся его семья тоже приняла новую веру. Особенную набожность проявляли мать и теща, которые совершали паломничества в Святую землю, собирали реликвии и поощряли возведение церквей в нескольких святых городах, особенно в Риме. Константин окружил себя христианскими советниками и идеологами, в числе которых были Евсевий, Лактанций и Осия.
Император сразу же взял дела Церкви в свои руки. Политическое признание нового культа обернулось политическим контролем над Церковью. Уже в 314 году Константин созвал всех западных епископов в Арль для улаживания разногласий между ними. Император использовал монотеизм для обоснования своих полномочий. Он указывал на то, что summa divinitas (верховное божество) требует от Церкви единства и спокойствия, со всей очевидностью намекая на собственную роль — дескать, на земле обеспечить такое единство может только император. Константин был императором милостью Божьей. Он выступал не как партнер Церкви, а как ее глава.
Он стремился обеспечить христианству место в политической жизни, раньше отведенное культу Юпитера и других богов как легитимизирующей основы государства и императорской власти. Каждый год Константин созывал в разных концах страны епископальные синоды и руководил ими либо самолично, либо через своих уполномоченных. Старинный жреческий титул pontifex maximus (верховный понтифик), которым со времен Августа наделялись императоры в качестве глав государственного культа, внезапно приобрел новое значение. Все христианские священники, включая епископов, получили освобождение от уплаты налогов, поскольку их воспринимали как служителей государственного культа.