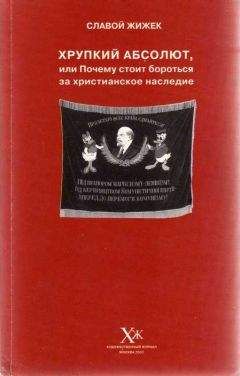Однако здесь–то как раз все и начинает усложняться. Разве христианство выступает за переход от универсальности, продолжающей поддерживать связь с чрезмерным насилием одного из своих частных оснований, источником своей жизненной силы, к универсальности, стирающей следы этого условного насилия, достигающей Искупления и тем самым способствующей примирению со своей травматической Причиной, ритуально разыгрывающей основополагающее Преступление и Жертвоприношение, которое стирает его следы и приносит согласие в Слове? А что, если раскол между символическим Законом и непристойным теневым восполнением чрезмерного насилия, его поддерживающим, не является предельным горизонтом нашего переживания? А что, если эти запутанные отношения Закона с его призрачным двойником суть то, что в знаменитом отрывке из Послания к Римлянам (7:7) Святой Павел изобличает как нечто излишнее для христианской трапезы любви и милости? А что, если агапэ Павла, этот шаг по ту сторону взаимосвязи закона и греха, не является шагом в сторону полной символической интеграции частного греха в универсальную область закона, но как раз–таки наоборот, есть невидимый жест выхода за пределы самого закона, существования «умерши для закона», как пишет Святой Павел (Римлянам, 7:5)? Иными словами, а что, если христианский зарок — это вовсе не Искупление в смысле возможности для сферы универсального Закона ответным движением «снять», интегрировать, успокоить, стереть свои травматические основания, но нечто совершенно иное, а именно — разрыв в гордиевом узле порочного круга Закона и его основополагающей Трансгрессии?
Для многих проблематичным в агапэ Святого Павла кажется то, что он, похоже, представляет любовь сверхэгоистичной, понимает ее почти по–кантовски, не как спонтанный выплеск великодушия, не как самоутверждающуюся позицию, но как самоподавляющую обязанность любить ближнего и заботиться о нем, как тяжелый труд, как нечто такое, что необходимо выполнять с неимоверными усилиями, направленными на борьбу и подавление собственных спонтанных «патологических» наклонностей. Агапэ как таковое противоположно эросу, поскольку означает не столько плотские удовольствия, сколько доброту и заботу как часть собственной природы, и чье отправление приносит удовлетворение. Однако, разве такова позиция Святого Павла? Разве речь не должна идти о любви без налагаемых Законом ограничений, о любви как борьбе за подавление греховной невоздержанности, порождаемой Законом? И разве подлинная агапэ не ближе к скромной непринудительной добродетели? [86]
К этому же вопросу можно было бы подойти и с другой стороны — со стороны иконоборчества. Как всем известно, языческие (до–еврейские) боги были антропоморфными (скажем, древнегреческие боги вступают во внебрачные связи, мошенничают и предаются прочим обычным человеческим страстям…), в то время как еврейская религия с ее иконоборчеством стала первой, старательно лишившей божественное антропоморфизма. А что, если все как раз–таки наоборот? Что, если сам запрет человеку на творение образов Бога несет свидетельство Его «персонификации», распознаваемой в словах Его «сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Бытие, 1:26)? Что, если цель еврейского иконоборческого запрета связана не с предшествующими языческими верованиями, а со своей собственной антропоморфизацией/персонализацией Бога? Что, если еврейская религия сама порождает тот избыток, который следует запрещать? Ведь в языческих религиях такого рода запрет был бы просто лишен смысла. (И христианство затем совершает еще один шаг вперед, утверждая не только подобие Бога и человека, но их непосредственное тождество в фигуре Христа: «Неудивительно, что человек выглядит как Бог. поскольку Человек/Христос/Есть Бог…») Согласно распространенным представлениям, язычники были антропоморфистами, евреи — радикальными иконоборцами, а христиане осуществили некий «синтез», отчасти регрессировав к язычеству, когда утвердили «икону, стирающую все остальные иконы» — страдающего Христа. Против этого общепринятого мнения стоит возразить, что именно еврейская религия остается «абстрактным/непосредственным» отрицанием антропоморфизма, с ней связанного, определенного ею в самом непосредственном отрицании, в то время как только христианство на самом деле «снимает» язычество.
Итак, еще раз; в чем же именно заключается элементарный христианский жест, лучше всего выраженный в агапэ Святого Павла? Даже среди христиан в объяснении его природы встречается множество расхождений. По этой причине, кажется, лучше всего для его определения прибегнуть к методу от противного, т, е. для начала сосредоточиться на тех очевидно христианских тенденциях, которые сегодня представляют собой угрозу для собственно христианской позиции. Как хорошо известно, миф о Граале — показательный случай религиозно–идеологической «экз–аптации» (если воспользоваться этим понятием Стефена Джея Гоулда из его критики ортодоксального дарвинизма). Этот миф вновь вписывает в христианский мир языческое понятие магического объекта, приносящего изобилие и дарующего сезонное возрождение, регенерацию. В своей последней опере, «Парсифаль», Рихард Вагнер представляет этот процесс с противоположной стороны: он истолковывает смерть Христа и чудо Страстной пятницы как языческий миф сезонной смерти и возрождения. Жест этот глубоко антихристианский: порывая с языческим понятием космической Справедливости и Гармонии, христианство порывает и с языческим представлением о круговороте смерти и перерождения божественного. Смерть Христа — не то же самое, что сезонная смерть языческого бога. Она скорее обозначает разрыв с круговым характером движения смерти и возрождения, представляет собой переход к совершенно иному измерению Святого Духа. Здесь возникает искушение сказать, что «Парсифаль» — образец для всех нынешних христиан–фундаменталистов, которые под маской возвращения к подлинно христианским ценностям делают обратное, предают травматичную сердцевину христианства.
На каком именно уровне христианство придает основания правам свободам человека? Если немного упростить картину, то следует сказать, что в истории религий можно усмотреть два противоположных подхода — глобальный и универсальный. С одной стороны, есть языческий Космос, божественный иерархический порядок космических принципов, которые, будучи перенесенными на общество, создают картину сообразного здания, в котором каждый член этого общества занимает свое место. Высшее Добро здесь — глобальное равновесие принципов. в то время как Зло рассматривается как отпадение от них. как их нарушение, ибо чрезмерное утверждение одного из принципов ущемляет другие (например, чрезмерное утверждение мужского принципа наносит вред женскому; разума — чувствам). Космический баланс вновь устанавливается благодаря Справедливости, которая с неумолимой необходимостью ставит все на свои места, уничтожая то, что стоит на пути гармонии. Что касается социального тела, то индивид считается «хорошим», если он действует в соответствии с тем местом, которое отведено ему в социальном здании (когда он уважает природу, дающую ему еду и убежище, когда он проявляет уважение к старшим, которые по–отечески о нем заботятся), а Зло появляется, когда отдельные слои общества или индивиды не удовлетворяются занимаемым местом (дети не слушаются родителей, слуги не подчиняются господам, мудрый правитель превращается в капризного злобного тирана). Самая сердцевина языческой мудрости коренится в прозрении космического равновесия иерархического порядка принципов, в понимании вечного круговращения космической катастрофы и восстановлении Порядка благодаря справедливому наказанию. Самым тщательно разработанным примером такого космического Порядка может служить древнеиндийская космология, которая сначала копируется социальным порядком в виде системы каст; а затем отдельным организмом в виде гармонической иерархии органов (головы, рук, живота). Сегодня такое отношение искусственным образом возрождается во множестве нью–эйджевских подходов к природе и обществу.
Христианство вводит в этот глобальный уравновешенный космический Порядок один принцип, который совершенно ему чужд, принцип, который, если подходить к нему с мерками обычной языческой космологии, может показаться лишь чудовищным искажением. Это принцип, согласно которому у каждого индивида есть непосредственный доступ к универсальному (Святому Духу или, сегодня, — к правам и свободам человека): я не могу участвовать в этом универсальном измерении непосредственно, безотносительно к тому особому месту, которое я занимаю в глобальном социальном порядке. И разве «скандальные» слова Христа из Евангелия от Луки не указывают в том же направлении: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (14:26)? Здесь, конечно же, мы не имеем дело с простой жестокой ненавистью, востребованной жестоким и ревнивым Добром: семейные отношения здесь метафорически представляют всю социосимволическую сеть, а также любую этническую субстанцию, которая определяет наше место в глобальном Порядке Вещей. «Ненависть», которую предписывает Христос, это, следовательно, не просто своеобразная псевдодиалектическая противоположность любви, но непосредственное выражение того, что Святой Павел в Послании Коринфянам I (13) с невероятной мощью разворачивает как агапэ. Речь идет о ключевом понятии, посредствующем между верой и надеждой: именно сама любовь предписывает нам выключиться из нашего органического общества, в котором мы родились, или, как говорит Святой Павел, для христианина нет ни мужчин, ни женщин, ни евреев, ни греков… Неудивительно, что те, кто идентифицировался с еврейской «национальной субстанцией», равно как греческие философы и те, кто выступал в защиту глобальной Римской Империи, восприняли явление Христа как забавный и/или травматический скандал.