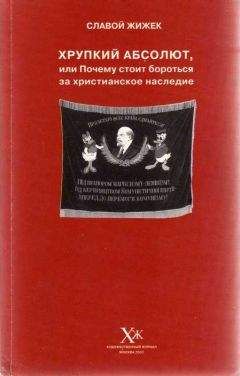В таком «разъединении» ближний сводится к отдельному члену общины верующих (»Святого Духа»). Используя альтюссеровско–лакановскую оппозицию, можно сказать, что не символический субъект сводится к «реальному» индивиду, но индивид (во всем богатстве его «личности») сводится к отдельной точке субъективности. «Разъединение» как таковое эффективно включает «символическую смерть» — следует «умереть для закона» (Святой Павел), который регулирует нашу традицию, нашу социальную «субстанцию». Выражение «новая тварь» свидетельствует здесь о жесте сублимации, о стирании следов своего прошлого (»древнее прошло, теперь все новое»), о начале всего сначала. Итак, в этом «разъединении» всегда в действии ужасающее насилие, насилие влечения к смерти, желание окончательно «покончить с прошлым», чтобы создать условия для Нового Начала.
13. «РАСЧЕТ, РАСЧЕТ, ПРИЯТЕЛЬ!»
Какое понятие противоположно агапэ? — Скупость как один из самых загадочных смертных грехов. Здесь даже возникает искушение вернуться к старой моралистической традиции: капитализм возникает из греха скупости, из скаредного нрава. Дискредитированное фрейдовское понятие «анального характера» в его связи с капиталистическим накоплением получает здесь неожиданную поддержку. В «Гамлете» (акт I, сцена 2) очень точно показан этот грешный характер чрезмерной бережливости:
Горацио: Я плыл на похороны короля.
Гамлет: Прошу тебя, без шуток, друг–студент;
Скорей уже — на свадьбу королевы.
Горацио: Да, принц, она последовала быстро.
Гамлет: Расчет, расчет, приятель! От поминок Холодное пошло на брачный стол.
О, лучше бы мне встретился в раю
Мой злейший враг, чем этот день, Горацио! [88]
Крайне важно здесь то, что «расчет», бережливость не просто означают некую неопределенную экономность, но конкретный отказ как следует оплачивать траурный ритуал: расчет (в данном случае то, что холодное с поминок идет на брачный стол) разрушает значение ритуала, его стоимость, ту, которую, согласно Лакану, Маркс отрицал в своем объяснении стоимости:
Это понятие (расчет) служит хорошим напоминанием о том, что в разработанных современным обществом удобных отношениях между потребительской стоимостью и меновой стоимостью, кажется, есть кое–что такое, мимо чего прошел анализ экономики Маркса, кое–что занимающее умы нашего времени, кое–что такое, чью силу и размах мы непрерывно на себе ощущаем. Это кое–что — ритуальная стоимость [89].
Каков же тогда статус расчета как порока? [90]
В рамках аристотелевской мысли несложно было бы поместить расчет в оппозицию к расточительности и затем, конечно, установить срединное понятие, скажем, благоразумие, искусство умеренных трат избегающее как одной крайности, так и другой, т. е. настоящее благе Однако парадокс скряги заключается в том, что он саму умеренность числит излишеством. Иначе говоря, обычное описание желания фокусируется на его трансгрессивном характере: этика (в домодернистском смысле «искусства жить») — это, в конечном счете, этика умеренности сопротивление необходимости переходить за определенную черту, сопротивление желанию, трансгрессивному по определению — сексуальной страсти, которая поглощает целиком и полностью, ненасытной разрушительной страсти, которая не остановится ни перед чем, даже перед убийством… Вопреки этому трансгрессивному представлению о желании, скряга направляет свое желание (вместе с избыточным характером) на саму умеренность: не тратить, не расходовать, экономить, воздерживаться — все пресловутые «анальные качества». Но только это желание, это анти–желание и является по сути своей желанием. Здесь целиком и полностью оправдано использование гегелевского понятия «противоположного определения» [gegensaetzliche Bestimmung] [91]: Маркс утверждает, что «производство» дважды вписано в ряд производство- распределение — обмен — потребление. Оно одновременно присутствует в самом ряду и является принципом, структурирующим весь ряд. Производство — один из членов последовательности, и производство — структурирующий принцип, который, будучи таковым, «сталкивается со своим противоположным определением» [92], как говорит Маркс, прибегая к понятию Гегеля. То же самое касается и желания: есть различные виды желания, например — излишняя привязанность, подрывающая принцип удовольствия. Среди различных видов желания желание «как таковое» встречается в своем «противоположном определении» под маской скряги или его расчета, в самой противоположности трансгрессивного движения желания. Лакан проясняет это на примере Мольера:
Объект фантазии, образ и пафос — другой элемент, занимающий место того, чего субъект символически лишен. Таким образом, воображаемый объект находится в том положении, из которого он должен вместить в себя достоинства или качества существа, стать той истинной его уловкой, которую Симона Вайль рассматривает, сосредоточиваясь на богатых и в то же время туманных отношениях человека с объектом его желания — на отношениях Скупого у Мольера с его драгоценным сундуком. Это — кульминация фетишистского характера объекта в желании человека. <..> Туманный характер объекта a в воображаемой фантазии определяет его в его наиболее ярко выраженной форме в качестве полюса перверсивного желания. [93]
Так что если мы хотим разобраться в тайне желания, то нам следует сосредоточить внимание не на любовнике или убийце, этих пленниках страсти, готовых поставить на карту все что у них есть, но на отношении скупого с его сундуком, заветным местом накопления и хранения богатств. Тайна, конечно же, заключается в том, что в фигуре скупого избыток совпадает с недостатком, могущество — с бессилием, алчное накопление запасов — с возвышением объекта до уровня запретной, неприкасаемой Вещи, которую можно лишь наблюдать, но которой нельзя в полной мере наслаждаться. Разве не об этом ария Бартоло «А un dottor della mia sorte» из первого акта «Севильского цирюльника» Россини? Его навязчивое безумие совершенно точно передает его полное безразличие к сексуальному обладанию юной Розиной. Он хочет на ней жениться, чтобы завладеть ею подобно тому, как скупой владеет своим заветным сундуком. Говоря философским языком, парадокс скупого в том, что он соединяет две несовместимые этические традиции: аристотелевскую этику умеренности и кантовскую этику безусловного требования. Следование правилу умеренности, бегство от избытка порождает свой собственный избыток, свое собственное прибавочное наслаждение.
Однако капитализм выворачивает эту логику: капиталист — это уже не одинокий скряга, привязанный к скрытым сокровищам, украдкой, за тщательно закрытыми дверями взирающий на свои богатства, но субъект, следующий главному парадоксу: единственный способ сохранения и умножения ценностей — их трата. Формула любви, которую произносит со своего балкона Джульетта («чем больше я даю, тем больше остается») подвергается перверсивному вывиху. Разве эта формула не передает капиталистическую авантюру? Чем больше капиталист инвестирует (и занимает денег, чтобы инвестировать), тем больше у него их оказывается, так что, в конечном счете, перед нами чисто виртуальный капиталист а-ля Дональд Трамп, чья наличность, «собственный капитал» практически равен нулю или даже в минусе, но при этом с учетом его грядущих доходов он слывет «богачом». Возвращаясь к гегелевскому «противоположному определению», можно сказать, что капитализм вращается вокруг понятия расчета, скупости как противоположного определения (формы видимости) производства желания (т. е. потребления объекта): род здесь — алчность, в то время как избыточное безграничное потребление есть сама алчность в форме видимости (противоположного определения).
Этот основополагающий парадокс позволяет нам даже разрабатывать элементарную маркетинговую стратегию, обращенную к потребительской скупости. Разве не таков основной призыв рекламных роликов «Купи это, потрать больше, и ты сэкономишь, ты получишь еще часть задаром!»? Вспомните хорошо всем известную сцену (вполне в духе мужского шовинизма): жена приходит домой после похода за покупками и сообщает мужу: «Я только что сэкономила 200 долларов! Я хотела купить одну куртку; но купила три и получила скидку в 200 долларов!» Воплощением подобного рода прибыли может служить тюбик зубной пасты, треть которого окрашена в другой цвет и на фоне которого большими буквами написано «30% бесплатно!» Мне всегда хотелось, глядя на этот тюбик, сказать: «Ладно, давайте мне эти 30%!» Определение «собственной цены» при капитализме — цена скидки. Уже надоевший ярлык «общество потребления» справедлив лишь в том случае, если под потреблением понимать его противоположность — сбережение.