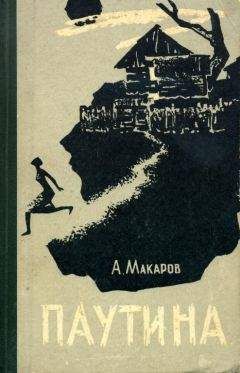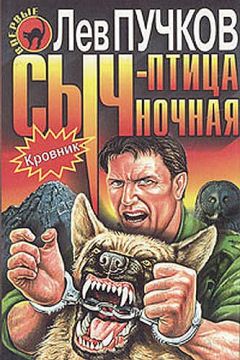— Тьфу, ты, балаболка!.. А еще сватьей доводится. Вот запусти такую в суд, отца-мать оболгет и не поморщится… Повывертел!.. Истерзал!. Сорок годов любяся живем, и вдруг — руки-ноги. Да ежели бы не энтое письмо, дак неужто бы я начал? Молись ты, окаянное сило, хошь в бане, хошь в конюшенке, только суседкам не пиши!.. А так, говорю, прекрати — и р-раз по платку!.. Сердце не выдержало… Тут, говорю, война, сенокосье, а ты, говорю, про светлые одежды и еще, говорю, Оксинью совращаешь, ах ты, говорю, — и р-раз ее по платку!.. А писулю взял, отобрал и сюда, бригадиру Демидычу… Вот как было-то!
Демидыч поднялся, с высоты своего роста прощупал колхозников орлиным взглядом и, встретив больше пасмурных, чем улыбающихся лиц, нахмурил косматые брови и надел очки.
— Хоть и богомольна Анисья… — снова начала Прося.
— Будя подъелдыкивать! — грозно осадил ее бригадир. — Таких-всяких и без тебя много… Никон Арефьич по-нашенски сделал: значит, собранье с Бойцовым правильно впитал; всем бы от него поучиться, а не зубы мыть. Сказано: сознательно али бессознательно, и Анфисья Мироновна, значит, в бессознательных. Выходит, растолмачить ей надобно миром да собором что фулеру на руку, а не хаханьки!.. Потом нещадно синий карандаш установить. Ну-ка, докладайте, кто у кого в деревне видывал синий карандаш?.. С нами, говорю, спорь да оглядывайся!
— По локоть лапы-то писакам, по локоть!
— Всем отрубишь, кто робить станет?!
— Не все пишут; подлецы пишут, и ты их не больна щити!.. Верно сказал Савельич — по локоть!
— А кто мне закажет молиться, ежели я того…
— Не про моленье мужики бают, а про писак, дура!..
— Кто дура?.. Сам сумасшедший!.. Затрясли бородами-то…
— Сарафан на башку, да арапником!
— Руки коротки, зараза пучеглазая!..
Перебранка разрасталась в ссору. Кто-то кого-то упрекнул давно забытыми пороками; эта кому-то плюнула на жилет; тот потрясал корявым пальцем перед чьим-то покрасневшим носом; двое уперлись борода в бороду и злобно шипели, как рассвирепевшие гусаки. Точно гром и ветер, перепутались мужские и женские голоса. Защелкали словечки, от которых стыдливые девчата подались прочь из-под навесика. Только ребята хохотали до слез, как будто ни с того ни с сего развеселившиеся старики и бабы разыгрывали перед ними потешную комедию: нашли из-за чего орать на всю деревню — из-за глупого письма; жаль, Арсена нет, вот бы сочинил частушку, всем бородачам на стыд!..
Минодора пришла на разнарядку в разгар шума. Она могла и не являться, но гнетущая подозрительность влекла странноприимицу туда, где собирался и гомонил народ, — вдруг придется извернуться, чтобы замести какие-то следы. Крики спорщиков о «святых» письмах насторожили Минодору, в груди болезненно колыхнулось, но ее выручила Прося. Распаленная ссорой солдатка кое-как объяснила причину шума, и странноприимица успокоилась. «Ого, если письма зацепили такую семью, как Никонова, — злорадно подумала она. — Семейка — близ не подойдешь, трудодни от колхоза на тройке возят!.. Письмишки и Просю с Никоном поссорили — вот тебе и милые соседушки, в одной бане парились, ребятишек чуть не с пеленок сосватывали!.. Да и народ кипит; ишь как царапаются, будто один от другого жену отбил, самовар украл, ворота вымазал — кутерьма!.. Теперь перетасовывай бригады: Никон не будет робить с Просей, тот с тем, эта с этой — вот тебе и сенокос!.. А почему бы кутерьмой не попользоваться?.. Послушники мне и в городе надобны. Попробовать сманить избитую Никониху? Обиженные-то драчливыми мужьями легче всего поддаются Платониде!»
Глаза Минодоры алчно сверкнули.
Под навесиком появились Рогов с Юрковым. Разбушевавшаяся толпа, прокашливаясь и пряча глаза, постепенно смолкла. Выяснив причину галдежа, Рогов взял «святое» письмо из рук Демидыча и сказал:
— В конторе есть все почерки; сличим и узнаем, кто сподручничает врагу, а уж потом пускай не обессудят, ясно?.. Теперь слушай разнарядку.
Председателя перебила жена Никона. Высокая, тонкая, вихлястая, с наружностью голодной щуки, одетая в старинный серый сарафан со стеклярусом, она по-щучьи с ходу врезалась в толпу и заговорила глухим, почти мужским баритоном:
— Гражданы! Вы вот чего… Выключайте меня да Оксинью с бригады, покудов петровки не кончатся. В пост мы с Оксей робить не станем, в пост говеть надумали, как пророк велит.
— А трудодни-то, Анфисья Мироновна? — уронив очки на колени, оторопело проговорил Демидыч.
— У меня их с нового году четыреста зароблено, хватит. А старика мово не шевели, он и без того ни на что не гожий… Драться сроду не дирался — Проська все это насвистала; ходит, ляшки-то трет, суседушка!..
Она плюнула в сторону Проси, круто повернулась и широким шагом направилась к своему дому.
— Вот как он, пророк-то, — со злостью выкрикнул Демидыч. — Враз двух человек из моей бригады выхватил!.. Как теперича, Андрей Андреич?
— Ладно, сам схожу к Мироновне, — ответил Рогов и мельком покосился на Минодору. — Теперь на покос, ясно?
Когда колхозники, блестя косами и посверкивая глазами друг на друга, хмурой, молчаливой толпой выходили из-под навесика, председатель задержал бригадира.
— Вот чего, Демидыч, — предложил он старику, — кончишь косьбу в ложке, ставь всю бригаду на пойму вдоль Минодориной усадьбы.
— Да-а, там трава поспела…
— Поспела, поспела, пора.
Юрков прикрыл ухмылку ладонью, он разгадал маневр председателя: окружить дом Минодоры со всех сторон работающими колхозниками и по крайней мере днем не выпустить из него ни одной души. В самом деле, какой нездешний, да еще знающий за собой определенную вину человек рискнет выйти из этого дома светлым днем, если с востока под самыми стенами его станет цепь косарей деда Демидыча, на юге в полукилометре видны пахари Спиридона, на севере пасут молодняк старики, а на западном берегу резвятся дети из колхозного садика под присмотром своих воспитателей? Вот ночью — другой разговор!..
Как будто на лету перехватив догадку своего полевода, Рогов обернулся к нему:
— Ночью поставь караулы, — произнес он вполголоса. — Подбери шесть-семь хороших охотников; приедет милиция — подмогнешь. Спирю с Фролом не надо: самосуд не самосуд, а палку перегнуть могут. Ступай спи. Вечером зайду.
— Ты на телефон?
— Да.
Лизаветы дома не было; сегодня ее бригада спозаранку полола и окучивала картофель. На рундуке, заметнув руки под голову, похрапывал после ночного дежурства Трофим Фомич; в страдную пору старик отдыхал не больше трех-четырех часов, потом вставал и уходил на помощь особенно отстающей бригаде. На столе, рядом с крынкой молока и краюхой хлеба, белела бумажка — Арсен писал:
«Пришел да ушел. Зайду вечером».
Николай позавтракал, разбудил отца, проводил его на сенокос и, собравшись наверстать три бессонные ночи, лег на кровать. Но сна не было, в голове роились мысли о ночных караулах и помощи милиции в случае нужды. Охотников, вполне здоровых и надежных стариков, набиралось четверо; он не считал себя, отца и Арсена. Семи человек хватило бы и на все лазейки из Минодориной усадьбы и войти в дом, чтобы взять теперь вполне определенных преступников. Однако кто же должен первым подставить лоб под пули — ведь не может же вооруженный дезертир не стрелять? Было бы еще полбеды, если там вооружен один, но если двое-трое?.. Риск слишком велик, и попробуй впоследствии оправдаться, если прольется чья-нибудь кровь. Но нельзя, невозможно обойти вниманием то, что рассказала Капитолина:
— Калистрат — медведище и всегда с топором; Минодора напела ему, что дезертиров расстреливают, и он не сдастся. Петушиный глаз прячет наган под матрацем — Агапита выглядела, когда мыла пол в его келье. У старика пика, он дважды два проткнет. А Платонида — сука; прижми ей хвост, так она не устрашится и десяти смертей!.. Ну, Неонила только завоет, она такая. Еще имеется Варёнка, полоумная дура. Вот уж та повопит так повопит!
Изобразив переполох дурочки, Капитолина смеялась; однако именно Неонила и Варёнка смущали теперь Юркова едва ли не больше, чем все обитатели подвала. Он понимал, что дикий крик и визг в данном случае опаснее стройного залпа, страшнее взрыва бомбы. Стоит завыть старухе, как завопит дурочка, возникнет паника, вспыхнут выстрелы, и могут быть жертвы. Кто поручится, что дезертир, пользуясь хаосом, не застрелит или не зарубит хотя бы ту же Капитолину либо Неонилу, чтобы потом свалить убийство на колхозников? И кто знает, не истолкуют ли все это как нападение самосудчиков на религиозную общину — разве мало еще злопыхателей?!
Когда вернулась Лизавета, он сидел на кровати и докуривал едва ли не десятую папироску. Полагая, что муж спит, она вошла на цыпочках, но увидев его бодрствующим, остановилась поодаль напротив и рассмеялась. Красная косынка, повязанная под подбородком и четко обрамляющая правильный овал ее чуть-чуть горбоносого лица, голубенькая безрукавная блузка, кажущаяся слишком тесной на груди, серая юбка, плотно облегающая крутые бедра, щеголеватые брезентовые полусапожки — все это придавало Лизавете прежнюю девическую привлекательность, и Николай широко улыбнулся. Жена подбежала к нему, поцеловала.