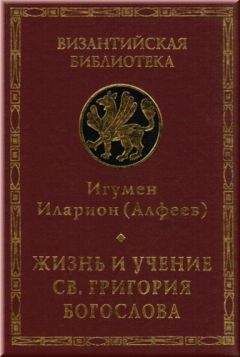Григорий уже не сотрапезник земного царя, как прежде,
Он не сделает и малой поблажки своему мешку,[576]
Не будет возлежать среди пирующих, потупленный и безмолвный,
Едва переводя дыхание и пожирая пищу, подобно рабам…
Не буду лобызать рук, обагренных кровью,
Не буду касаться чьего‑либо подбородка, чтобы добиться небольшой милости.[577]
На священный, именинный, похоронный или свадебный пир
Не пойду с многочисленной свитой,
Чтобы все или собственными челюстями истребить, или предоставить
Сопровождающим — хищническим рукам Бриарея;[578]
И чтобы вечером отвести обратно нагруженный корабль — одушевленный гроб -
Отправить домой отягощенное чрево;
И чтобы, едва переводя дыхание от пресыщения, спешить на новое обильное застолье,
Не успев разрешиться от бремени предыдущего пиршества.[579]
О епископате и клире своего времени Григорий говорит как о" "мастерской всех пороков" ", где зло председательствует и где те, которые должны быть" "учителями добра" ", учат людей пороку. [580] Григория возмущает рукоположение в священный сан лиц, не прошедших должную подготовку, не научившихся аскетическому образу жизни и остающихся светскими по духу и поведению: тот, кто еще вчера забавлялся мимами и бегал по театрам, был страстным поклонником конного спорта и на скачках подбрасывал вверх землю, кто кружился среди женоподобных танцоров и напивался до потери чувств, сегодня становится председателем церковного народа, молитвенником за людей и учителем благочестия."Вчера Симон–маг, сегодня Симон Петр. Не верю такой внезапной перемене! Не верю львам в овечьей шкуре!" — восклицает Григорий.[581]
В 80–х годах IV века, когда писались эти строки, Церковь стремительно росла, повсюду открывались новые храмы, на архиерейские кафедры и пресвитерские престолы возводились последователи никейской веры. Внешний расцвет, однако, не мог обмануть многоопытного пастыря, глубоко озабоченного внутренним состоянием Церкви. Григорий хорошо знал, что среди новоявленных никейцев много бывших ариан, которые лишь надели новую личину в угоду обстоятельствам времени. Кроме того, он понимал, что открывшиеся архиерейские и иерейские вакансии будут заполнены далеко не лучшими кандидатами, так как невозможно в столь короткий срок подготовить достаточное количество достойных священнослужителей. У него создавалось впечатление, что в священные степени возводят кого попало, лишь бы заполнить вакантные места:
…Всем открыт вход в незапертую дверь, и кажется мне,
Что слышу глашатая, который стоит посреди и взывает:
"Идите сюда, все злодеи, отребье общества,
Чревоугодники, толстожилые, бесстыдные, наглые,
Пьяницы, бродяги, сквернословы, щеголи,
Лжецы, обидчики, нарушители клятв,
Обкрадывающие народ, на чужое имущество безнаказанно
Налагающие руки, убийцы, обманщики, неверующие..,
Двоедушные, служащие переменчивому времени,
Полипы, принимающие цвет камня, на котором живут…
Приходите смело! Для всех готов широкий престол!
Приходите, приклоняйте юные шеи под простертые десницы,
Которые благосклонно простираются над всеми, даже не желающими…
Великое чудо! Саул не только не чужд благодати, но и пророк!
Итак, никто — ни земледелец, ни плотник, ни кожевник,
Ни охотник, ни занимающийся кузнечным делом -
Никто не оставайся вдалеке и не ищи себе другого путеводителя к Богу:
Лучше ведь самому начальствовать, чем подчиняться начальнику.
Пусть один бросит из рук большую секиру, другой — рукоять плуга,
Третий — мехи, четвертый — копье, пятый — щипцы,
И все — сюда! толпитесь у божественного престола,
Теснясь и тесня других!..
Кто пишет копию картины, тот сначала ставит перед собой подлинник,
А потом и копия принимает на себя образ оригинала;
Но кто смотрит на вас, тот пойдет в противоположную сторону.
И это единственная польза от вашей порочности!"[582]
Взгляд Григория на священнослужителей своего времени, как видим, весьма пессимистичен. Может даже показаться, что он сгущает краски, что он слишком субъективен в оценках. Свергнутый с константинопольского престола собратьями–епископами, Григорий был на них сильно обижен: в этом, несомненно, одна из причин его обличений в их адрес. Однако неверно было бы сводить весь пафос Григория к личным обидам. В том, что произошло с ним самим, он видел не столько свою личную трагедию, сколько отражение общей кризисной ситуации, складывавшейся в Восточной Церкви конца IV века. На его глазах происходило постепенное порабощение Церкви миром, массовое обмирщение епископата и клира. Образ епископа как пастыря, духовного наставника и старца, обладающего, в силу своих высоких духовных качеств, непререкаемым авторитетом в глазах паствы, постепенно сменялся образом епископа как государственного сановника, участвующего в светских церемониях, послушно следующего указаниям гражданских властей не только в церковно–административных, но также и в догматических вопросах. Грань между Церковью и миром, между" "царством духа" "и" "царством кесаря" "постепенно стиралась: так, во всяком случае, считал Григорий.[583]
Процесс обмирщения клира и" "огосударствления" "Церкви, начавшийся со времени Константина Великого, приведет в эпоху Юстиниана (VI в.) к официальному провозглашению идеала так называемой" "симфонии" "между государством и Церковью — "симфонии" ", при которой Церковь фактически потеряет независимость и окажется в полном подчинении светским властям. В иконоборческую эпоху (VII‑VIII вв.) византийский епископат из‑за своего приспособленчества настолько утратит авторитет в глазах паствы, что народ будет обращаться за духовным руководством не к представителям" "официальной Церкви" ", а к монахам, которые во многих случаях окажутся главными защитниками православной веры против еретичествующих императоров и послушных им епископов.
Григорий Богослов не мог не видеть, в какую бездну скатываются представители церковного руководства, когда следуют законам" "мира сего" "; именно поэтому он всеми силами противился обмирщению епископата и клира. В своих стихотворениях он говорит о наказании, которое ждет недостойных клириков на Страшном Суде, вспоминает о библейском потопе и гибели Содома как прообразах Судного дня:
Остановитесь, друзья! Прекратим упражняться в нечестии!
Почтим, наконец, Бога, святыми жертвами!
И если мы убеждены, извлечем пользу из сказанного мною;
Если же слово мое и седину мою покрывает наглость юнцов,
Или тех ворон, которые громко и безумно накликают на меня тучу,[584]
То свидетельствуюсь рукой бессмертного Бога и страшным днем..,
Что я им не сопрестольник, не сотрудник,
Не собеседник, не спутник ни в плавании, ни в дороге.
Но пусть идут они своим путем, я же тем временем
Буду искать себе Ноев ковчег, чтобы в нем спастись от страшной погибели,
Потом же избежать, пребывая вдали от злых,
И попалившего Содом горького и невыразимого дождя.[585]
Обличения Григория в адрес недостойных клириков звучат как пророческое предупреждение всем будущим поколениям священнослужителей. В XI веке с подобными обличениями к епископам и священникам своего времени обращался Симеон Новый Богослов, [586] явно находившийся под влиянием Григория. До тех пор, пока в Церкви остаются архипастыри и пастыри, недостойные своего призвания, позорящие высокий сан, слово Григория сохраняет свою актуальность.
К концу IV в. в христианском мире сформировался годичный круг церковных праздников, центром которого являлось Воскресение Христово (Пасха). Помимо Пасхи, важнейшими праздниками были Рождество и Богоявление (которые почти всюду на Востоке праздновались в один день), [587] а также Пятидесятница. В основу праздничного круга была положена идея ежегодного воспоминания главных событий из жизни Иисуса Христа и раннехристианской Церкви. Торжественное богослужение, совершение Евхаристии, чтение соответствующих текстов из Ветхого и Нового Заветов, проповедь на тему праздника — все это должно было способствовать переживанию празднуемого события каждым верующим, молитвенному и духовному проникновению в смысл праздника. Евангельское событие благодаря его воспоминанию в Церкви становилось реальностью духовной жизни христианина, который, хотя и жил несколько столетий спустя, мог мысленно приобщиться к этому событию и стать как бы его участником.