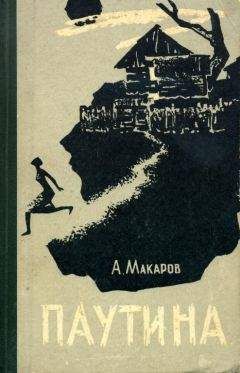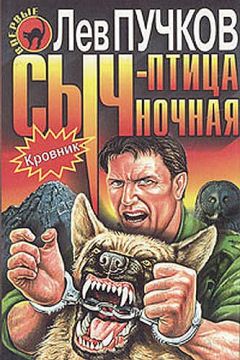Он выпил вторую рюмку, закусил печенкой, и Прохор Петрович, не мешкая, налил ему третью.
Платонида покосилась на старика, но, взглянув в одутловатое, вдруг расцветшее благодушием лицо пресвитера, грызущего куриную ножку, смилостивилась. «Пускай приемлет, поелику взалкалось, — подумала она, размыслив. — Сие не возбранно, Христос простит, а я мешать не стану. Пастырь добрый, не обуян гордыней, не любоначален. Преклонился предо мною, посох мой облобызал, матерью, а не сестрою величает — все ли тако? Зрю, памятует, от кого пресвитерский наперстник получил, чует, на коих столпах вера зиждется».
Не нравилась торопливость отца и Минодоре, но, видя податливость гостя и снисходительность к нему Платониды, чей авторитет сразу вырос в глазах странноприимицы, она лишь заботилась, чтобы тарелка Конона не пустовала. «Пущай жрет и хлещет водку, лишь бы наше не пропало, — мысленно злорадствовала она. — А поговорить успеем, не завтра же его черт унесет».
С благоговением угощал пресвитера старик Коровин. Он аккуратно наполнял рюмку вровень с позолоченным венчиком, брал ее за хрупкую ножку, вздымал над столом и медленно, как святыню, ставил перед гостем. Для бывшего писаря пресвитер общины стоил полусотни исправников — шутка в деле властвовать над обителями двух бывших губерний, пусть с двумя десятками странников!.. Конон в его понятии был полу-Христом; а кому не лестно сидеть рядом с восседающим полубогом, заглядывать грешными глазами в его очи и возливать вино в его чашу своей рукой? Не беда, что полубог знал, как эта рука крала и предавала, подделывала и поджигала, подложничала и истязала. Зато и Прохор Петрович многого не замечал; например, того, как быстро охмелевший святитель назвал город Назарет лазаретом, а гору Голгофу какой-то Глафирой; старик просто налил оскандалившемуся пресвитеру очередную рюмку. Либо для того чтобы разом заглушить горечь своей богохульной оговорки, либо потому что он с нетерпением ждал именно вот этой самой рюмки, но Конон проглотил вино с алчностью, удивившей даже старого писаря. Потом, будто позабыв ветхий завет с его речениями, пресвитер заговорил о земных делах почти земными словами.
— В оных палестинах, честнейший брат Прохор, я, э, в обетованном раю, — изменившимся, напряженным языком начал он. Размокший голос его на каждом слоге подпрыгивал с баса на баритон, с баритона на тенор и представлялся Прохору Петровичу неотразимо благостным и сладкозвучным.
— Ответствуй мне, друже, имеет право окружный, э, пресвитер воздохнуть от труды праведны, от муки адовы? Дозволено ему в бес-тре-пет-ном спокойствии ночь опочить?.. Матерь Платонида, сестра Минодора, я — не каменен. Из камени имя носящий, я только телесен, аки людь. И не единый крест несу, э, в богохранимой общине, но сдвоенный. Двойной, ибо не приемлю небесного без земного, ибо химерна вера без борьбы, как борьба бесплодна без веры. Я же — борец и ревнитель веры со юности моея и до…. до…
Пресвитер запнулся, очевидно, подыскивая слово, но Прохор Петрович подоспел с вином — и Конон будто высосал из рюмки злобную фразу:
— …до краха врагов моих!
Он сорвал с груди свой клетчатый платок, скомкал его в кулаке и швырнул на стол перед собою. Платонида торопливо перекрестилась, потом, сверкая глазами от божницы к Конону и от Конона к божнице, затеребила стеклянные бусины лестовки. Глядя на проповедницу, встрепенулась и Минодора: выбрав с блюда самого икряного леща, она с поклоном положила его на тарелку гостя. Умиленный Прохор Петрович решил заплакать: он сморщился, будто норовя чихнуть, но, крутя головой и всхлипывая, все-таки наполнил рюмку пресвитера аккуратно до позолоченного венчика.
Гость покончил с нею без закуски.
— И клятву оную блюду паки и паки! — подняв палец, с пафосом прошептал он. — Токмо усторожливо и благопристойно. Осторожность, нежнейший брат Прохор, суть порождение мудрости. Англия, Америка, их действо — божественная мудрость!.. Не второй фронт, а свиная тушенка и яичные пороха, затхлая крупчатка и грязное тряпье на подстилку — нате, жрите, жирейте, а потом мы вас к закланию… мудрость!
Изловчившись, Прохор Петрович чмокнул руку Конона на лету; речи гостя были приятны убежденному старорежимцу до пощипывания в носу — экое извитие словес! — и он едва совладел с собою, чтобы не выпить, как бывало, единую «за августейшего венценосца».
Пресвитер подобрал платок со стола, перекосившись, вытер поцелованную руку и тут же положил ее на плечо хозяина.
— На поле брани, херувимейший брат Прохор, сугубый спор, — все более костенеющим языком продолжал он. — И мы тамо, и тоже спорим, токмо тссс!.. Душою и помыслом суть тамо, э, существом же и естеством здесь, — но спорим!.. С кем? С ворогом нашим, именуемом коммунизм, токмо тссс!.. Единым словом Христа оружны и поражаем, ибо меч наш — мудрость!.. Дерзай, брат Прохор: где потребно — согни выю, главу преклони, но спорь! В словесах будь сладчайшим, как кенарь в саде, а ко-го-ток, х-хе… Мудрость!.. Коготок твой — слово писаное и рекомое, апостольское и человеческое, и спорь!.. Искуснейшая в словесах письменных и звучных мать Платонида, э, пример сей мудрости… Послания святых пророков суть меч ее, и я благословляю сие отныне и довеку: пишите, э, множьте, яко дождь, несите в мир послания сии и спорьте, токмо тссс, тссс!
Минодора глядела в широченный рот Конона и думала: «Пьян, пьян, скотина, а далеко видит и учит правильно. Расскажу-ка я ему завтра про хуторских прогульщиков да про Никониху с Оксиньей, то-то рад будет, пучеглазый бес!.. А все из моей обители, по моей указке, хоть и хвалит он за письма одну Платонидку».
Поучений пресвитера о христианской мудрости хватило до очередной рюмки. Конон выплеснул ее в рот и смиренно попросил еще. Затем, нашаривая ногами под столом ноги странноприимицы, пресвитер потянулся к ней лицом и, распялив губы до ушей, что он выдавал за улыбку, неожиданно твердо промолвил:
— А здесь я во благоволении. Э, предо мною рыбии и птичии телеса, вино и млеко… И сия трапеза благословенна. Мнится, что нет большевиков в Узаре моем!
— Найдутся, поди-кось, — не отняв зажатой ноги, сказала Минодора. — Колхозники ныне те же….
— Колхозники мразь!.. Тлен!.. Суть безбожие, и я… я… про…э-э, проклина-ю-у-у!
Голос Конона пророкотал в иконостасе медниц, рачьи глаза его налились кровью, протянутая к божнице рука пресвитера казалась дубовыми вилами, устремленными в чье-то горло. Но вот пальцы Конона сомкнулись, сжались в кулак, и рука с дребезгом упала на стол, круша посуду и закуски:
— Прроклинаю!..
— Аминь! — выкрикнула Платонида больше для того, чтобы предупредить закипевшее буйство пресвитера.
Минодора же тотчас налила рюмку и поднесла теперь сама. Будто клюя руку Конона носом, Прохор Петрович опять принялся целовать наперстный крест: подобных умилительных слов ему не приходилось слыхивать даже за этим столом. Конон же раскис, как будто последняя вспышка гнева оказалась намного сильнее всей выпитой водки. Елозя бородой по тарелке и пуча глаза попеременно то на Минодору, то на Платониду, пресвитер уже не говорил, но шипел.
— И сим п-победиш-ши… Тссс. И с-спорю… Тссс…
Он икнул и уронил голову на леща.
Некоторое время за столом царила выжидательная тишина. Наконец Платонида перекрестила Конона и повелительно махнула рукой. Минодора и ее отец взяли пресвитера под мышки, волоком утащили в горницу и уложили на кровать.
— Ослабел наш ясен сокол, — вернувшись, притворно вздохнула Минодора, а про себя подумала: «С вечера резвился, к ночи взбесился!»
— Христос благословит взалкавшего во истине, — произнесла Платонида и, словно ковырнув Минодору взглядом, добавила: — Но не простит солгавшему по ереси, говорит евангелист Фома. До седовласия пророк Исайя в вертепах блудницами услаждался, зато был в вере неколебен. Конон же в алкании лют, зато в разуме светел: вон как он о святых-то посланиях… Тако и будем — в них наша сила!.. Спасет Христос, матушка, почивать пойду.
Пока хозяева убирали со стола, рассветало.
— Дорушка, может, не пойдешь на работу для святого дня-с? — осведомился Прохор Петрович, будучи еще под чарами прошедшей ночи.
— Под суд спихнуть захотел?.. У нашего деревяшки не заржавеет!.. Варёнка корову подоит, так заставь дуру баню помыть. Запросит святитель-от твой. Вшей, поди, в гриве-то накопил, таскается везде, как Платонидкин Исайка… До меня его не буди, пускай дрыхнет.
Она хотела говорить с Кононом прежде других.
— Запрети тревожить и этим крысам, — странноприимица показала на душник. — Да гляди за воротами!
— Будет в аккурате-с.
Взяв свою папку с бумагами, Минодора ушла.
Петухи, будто состязаясь с пастушьим рожком, допевали свои утренние песни, а заботливые куры, выныривая из подворотен, уже ворошили на дороге слежавшуюся за ночь пыль. Вдоль заборов, пощипывая едва проклюнувшуюся травку, разгуливали пригнанные к пастуху коровы, а вблизи от матерей табунились телята — несмышленыши сладко потягивались на жиденьких ножках, обнюхивались и мирно лизали друг друга. В закутке между пожарным сараем и амбаром гуртовались овцы; они неумолчно топали копытцами о каменистый грунт и, как простуженные, по-старушечьи чихали и кашляли.