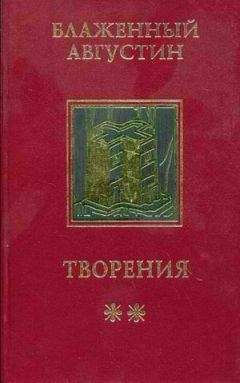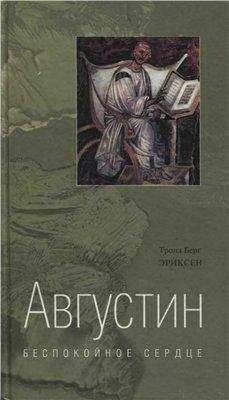24. Услыши, Господи, молитву мою, да не ослабнет душа моя под началом Твоим, да не ослабну я, свидетельствуя пред Тобою о милосердии Твоем, исхитившем меня от всех злых путей моих; стань для меня сладостнее всех соблазнов, увлекавших меня; да возлюблю Тебя всеми силами, прильну к руке Твоей всем сердцем своим; избавь меня от всякого искушения до конца дней моих. Вот, Господи, Ты Царь мой и Бог мой, и да служит Тебе все доброе, чему я выучился мальчиком, да служит Тебе и слово мое и писание и чтение и счет. Когда я занимался суетной наукой, Ты взял меня под свое начало и отпустил мне грех моего увлечения этой суетой. Я ведь выучил и там много полезных слов, хотя им можно было научиться, занимаясь предметами и не суетными: вот верный путь, по которому должны бы идти дети.
XVI.
25. Горе тебе, людской обычай, подхватывающий нас потоком своим! Кто воспротивится тебе? Когда же ты иссохнешь? Доколе будешь уносить сынов Евы в огромное и страшное море, которое с трудом пеоеплывают и взошедшие на корабль? Разве не читал я, увлекаемый этим потоком, о Юпитере, и гремящем и прелюбодействующем? Это невозможно одновременно, но так написано, чтобы изобразить, как настоящее, прелюбодеяние, совершаемое под грохот мнимого грома - сводника. Кто из этих учителей в плащах трезвым ухом прислушивается к словам человека, созданного из того же праха и воскликнувшего: "Это выдумки Гомера: человеческие свойства он перенес на богов, - я предпочел бы, чтобы божественные - на нас"? Правильнее, однако, сказать, что выдумки - выдумками; но когда преступным людям приписывают божественное достоинство, то преступления перестают считаться преступлениями, и совершающий их кажется подражателем не потерянных людей, а самих богов небожителей.
26. И однако в тебя, адский поток, бросают сынов человеческих, чтобы они учили это, притом еще за плату! Какое великое дело делается, делается публично, на форуме пред лицом законов, назначающих сверх платы от учеников еще плату от города! Ты ударяешься волнами о свои скалы и звенишь: "Тут учатся словам, тут приобретают красноречие, совершенно необходимое, чтобы убеждать и развивать свои мысли". Мы действительно не узнали бы таких слов, как: "золотой дождь", "лоно", "обман", "небесный храм" и прочих слов, там написанных, если бы Теренций не вывел молодого повесу; который, рассмотрев нарисованную на стене картину, берет себе в разврате за образец Юпитера. На картине было изображено, каким образом Юпитер некогда пролил в лоно Данаи золотой дождь и обманул женщину. И посмотри, как он разжигает в себе похоть, как будто поучаемый с небес: И бог какой, великим громом храм небесный сотрясавший! Ну как не совершить того же мне, человеку малому? Нет, неверно, неверно, что легче заучить эти слова в силу их мерзкого содержания; такие слова позволяют спокойнее совершать эти мерзости. Я осуждаю не слова, эти отборные и драгоценные сосуды, а то вино заблуждения, которое подносят нам в них пьяные учителя; если бы мы его не пили, нас бы секли и не позволили позвать в судьи трезвого человека. И однако. Боже мой, пред очами Твоими я могу уже спокойно вспоминать об этом: я охотно этому учился, наслаждался этим, несчастный, и поэтому меня называли мальчиком, подающим большие надежды.
XVII.
27. Позволь мне, Господи, рассказать, на какие бредни растрачивал я способности мои, дарованные Тобой. Мне предложена была задача, не дававшая душе моей покоя: произнести речь Юноны, разгневанной и опечаленной тем, что она не может повернуть от Италии царя тевкров. Наградой была похвала; наказанием - позор и розги. Я никогда не слышал, чтобы Юнона произносила такую речь, но нас заставляли блуждать по следам поэтических выдумок и в прозе сказать так, как было сказано поэтом в стихах. Особенно хвалили того, кто сумел выпукло и похоже изобразить гнев и печаль в соответствии с достоинством вымышленного лица и одеть свои мысли в подходящие слова. Что мне с того, Боже мой, истинная Жизнь моя! Что мне с того, что мне за декламации мои рукоплескали больше, чем многим сверстникам и соученикам моим? Разве все это не дым и ветер? Не было разве других тем, чтобы упражнять мои способности и мой язык? Славословия Тебе, Господи, славословия Тебе из Писания Твоего должны были служить опорой побегам сердца моего! Его не схватили бы пустые безделки, как жалкую добычу крылатой стаи. Не на один ведь лад приносится жеотва ангелами-отступниками.
XVIII.
28. Удивительно ли, что меня уносило суетой и я уходил от тебя. Господи, во внешнее? Мне ведь в качестве примера ставили людей, приходивших в замешательство от упреков в варваризме или солецизме, допущенном ими в сообщении о своем хорошем поступке, и гордившихся похвалами за рассказ о своих похождениях, если он был велеречив и украшен, составлен в словах верных и правильно согласованных. Ты видишь это, Господи, - и молчишь, "долготерпеливый, многомилостивый и справедливый". Всегда ли будешь молчать? И сейчас вырываешь Ты из этой бездонной пропасти душу, ищущую Тебя и жаждущую услады Твоей, человека, "чье сердце говорит Тебе: я искал лица Твоего; лицо Твое, Господи, я буду искать". Далек от лица Твоего был я, омраченный страстью. От Тебя. ведь уходят и к Тебе возвращаются не ногами и не в пространстве. Разве Твой младший сын искал для себя лошадей, повозку или корабль? Разве он улетел на видимых крыльях или отправился в дорогу пешком, чтобы, живя в дальней стороне, расточить и растратить состояние, которое Ты дал ему перед уходом? Ты дал его, нежный Отец, и был еще нежнее к вернувшемуся нищему. Он жил в распутстве, то есть во мраке страстей, а это и значит быть далеко от лица Твоего.
29. Посмотри, Господи, и терпеливо, как Ты и смотришь, посмотри, как тщательно соблюдают сыны человеческие правила, касающиеся букв и слогов, полученные ими от прежних мастеров речи, и как пренебрегают они от Тебя полученными непреложными правилами вечного спасения. Если человек, знакомый с этими старыми правилами относительно звуков или обучающий им, произнесет вопреки грамматике слово homo без придыхания в первом слоге, то люди возмутятся больше, чем в том случае, если, вопреки заповедям Твоим, он, человек, будет ненавидеть человека. Ужели любой враг может оказаться опаснее, чем сама ненависть, бушующая против этого врага? можно ли, преследуя другого, погубить его страшнее, чем губит вражда собственное сердце? И, конечно, знание грамматики живет не глубже в сердце, чем запечатленное в нем сознание, что ты делаешь другому то, чего сам терпеть не пожелаешь. Как далек Ты, обитающий на высотах в молчании, Господи, Единый, Великий, посылающий по неусыпному закону карающую слепоту на недозволенные страсти! Когда человек в погоне за славой красноречивого оратора перед человеком; судьей, окруженный толпой людей, преследует в бесчеловечной ненависти врага своего, он всячески остерегается обмолвки "среди людев" и вовсе не остережется в неистовстве своем убрать человека из среды людей.
XIX.
30. Вот на пороге какой жизни находился я, несчастный, и вот на какой арене я упражнялся. Мне страшнее было допустить варваризм, чем остеречься от зависти к тем, кто его не допустил, когда допустил я. Говорю Тебе об этом, Господи, и исповедую пред Тобой, за что хвалили меня люди, одобрение которых определяло для меня тогда пристойную жизнь. Я не видел пучины мерзостей, в которую "был брошен прочь от очей Твоих". Как я был мерзок тогда, если даже этим людям доставлял неудовольствие, без конца обманывая и воспитателя, и учителей, и родителей из любви к забавам, из желания посмотреть пустое зрелище, из веселого и беспокойного обезьянничанья. Я воровал из родительской кладовой и со стола от обжорства или чтобы иметь чем заплатить -мальчикам, продававшим мне свои игрушки, хотя и для них они были такою же радостью, как и для меня. В игре я часто обманом ловил победу, сам побежденный пустой жаждой превосходства. Разве я не делал другим того, чего сам испытать ни в коем случае не хотел, уличенных в чем жестоко бранил? А если меня уличали и бранили, я свирепел, а не уступал. И это детская невинность? Нет, Господи, нет! позволь мне сказать это, Боже мой. все это одинаково: в начале жизни- воспитатели, учителя, орехи, мячики, воробьи; когда же человек стал взрослым - префекты, цари, золото, поместья, рабы,- в сущности, все это одно и то же, только линейку сменяют тяжелые наказания. Когда Ты сказал, Царь наш: "Таковых есть Царство Небесное", Ты одобрил смирение, символ которого - маленькая фигурка ребенка.
XX.
31. И все же. Господи, совершеннейший и благой Создатель и Правитель вселенной, благодарю Тебя, даже если бы Ты захотел, чтобы я не вышел из детского возраста. Я был уже тогда, я жил и чувствовал; я заботился о своей Сохранности - след таинственного единства, из которого я возник. Движимый внутренним чувством, я оберегал в сохранности свои чувства: я радовался истине в своих ничтожных размышлениях и по поводу ничтожных предметов. Я не хотел попадать впросак, обладал прекрасной памятью, учился владеть речью, умилялся дружбе, избегал боли, презрения, невежества. Что не заслуживает удивления и похвалы в таком существе? И все это дары Бога моего; не сам я дал их себе; все это хорошо, и все это - я. Благ, следовательно, Тот, Кто создал меня, и Сам Он благо мое, и, ликуя, благодарю я Его за все блага, благодаря которым я существовал с детского возраста. Грешил же я в том, что искал наслаждения, высоты и истины не в Нем самом, а в создавиях Его: в себе и в других, и таким образом впадал в страдания, смуту и ошибки. Благодарю Тебя, радость моя, честь моя, опора моя. Боже мой; благодарю Тебя за дары Твои: сохрани их мне. Так сохранишь Ты меня, и то, что Ты дал мне, увеличится и усовершит-ся, и сам я буду с Тобой, ибо и самую жизнь Ты даровал мне.