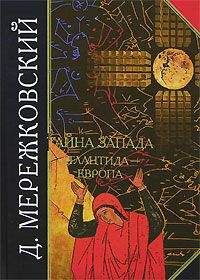XIX
Критскую богиню Европу, дочь Финикии, «Красной земли», но, может быть, не новой, восточной, а древней, западной, – похищает критский Зевс-Бык. Прядающий, пенящийся, ослепительно белый, nimio candore perfusus, вал морской несет юную богиню на о. Крит, в Гортину, не новым путем, с Востока, а древним, с Запада (Гортина в западной части острова), чтобы здесь сочетаться с нею в любви под вечно зеленым явором, райским Древом жизни (Drerup, Homer, 1903, p. 95, 105).
Два у Европы лица, – восходящая над морем, красная луна, злая колдунья Геката, и кроткая, белая Голубка, Бритомартис, луна заходящая, падающая в море, – мертвая спутница живой земли, Атлантида небесная, или угасшее светило первого человечества, – тоже зашедшая, упавшая в море, Атлантида земная.
Лунный, смертный путь – серебряный в море, лунный столб; им несет Европу критский и, может быть, атлантический, Бык: вспомним бога Быка, приносимого в жертву царями атлантами. Это и значит: путь в Европу из Атлантиды – Крит; Крит – Атлантида в Европе.
Как могла родиться поэтическая сила Гомера в общем упадке всех остальных искусств в VII–VIII, самом варварском веке эллинства, спрашивает Эванс и отвечает: «Сила эта заключалась в догомеровском, микено-миносском эпосе; может быть, песни Гомера только перевод с языка какого-то преэллинского племени» (Evans, Minoan and mycenean element in Hellenic life. – Journal of Hellen. Stud., XXXII, 1912, p. 293). Это слишком сильно сказано: эпос Гомера, конечно, не перевод; но, может быть, готовая канва эпической ткани действительно дана была Гомеру в незапамятно древних сказках-былях критских мореходов (Drerup, 131).
«Веслолюбивые, смелые гости морей, феакийцы» (Odys., XIII, v. 166), кажется, баснословные двойники уже Гомером забытых критян. Очень знаменательно, что при описании Крита в «Одиссее» доряне упоминаются только как одно из многих здешних племен, еще не завоевавших острова (Odys., XIX, v. v. 172–179): значит, стихи эти сложены до нашествия дорян (около 1000 г.). Так же знаменательно, что все изобретения, все искусства греков выводит Гомер из чуждой Финикии, может быть, смешивая новую, восточную, «Красную землю» с древней, западной. Если так, то тут «анахронизм», несовременность Гомера Троянской войне. Он уже забыл или хочет забыть родную миносскую древность. Что это значит?
Найденный в критских раскопках, резной гематит изображает охотничьего пса с бьющейся в когтях его ланью (Evans, 1. c. 293). Точно такое же изображение – на золотой пряжечной бляхе Одиссеева хитона (Odys., XIX, v. v. 225–231): как будто он потерял ее на Крите, а мы ее нашли и, по этой находке, уличаем Гомера.
Видел я в Крите, в царевом дворце,
Одиссея...
Там исправлял он свои корабли,
потерпевшие в бурю.
(
Odys., XIV, v. v. 382–383)
...В Крите гостил Одиссей
(
Odys., XIX, v. 185)
Нет, кажется, больше, чем «гостил», – жил, родился. Крит, а не Итака, – настоящая Одиссеева родина (Drerup, 127). Критскими «баснями», apologoi, обманывает он сначала богиню Афину, потом свинопаса Евмея и, наконец, Пенелопу. Афине выдает себя за критского вождя, не захотевшего служить Идоменею в Троянском походе; Пенелопе – за Идоменеева брата, Девкалионова сына, Миносова внука, Анитона (Odys., XIX, v. v. 180–184). Девкалион, греческий Ной, современник потопа, конца Атлантиды, – отец Одиссея, может быть, спасшегося от гибели Атланта.
Вот что скрывает Гомер или тот, кто нашептал ему незапамятно древние сказки-были. И хитрым Улиссом обмануты все, вот уже три тысячи лет.
...Так за неправду чистую правду
Он выдавал, —
говорит об Одиссее Гомер (Odys., XIX, v. v. 203–204), а о самом Гомере можно бы сказать: так чистую правду он выдавал за неправду. Зачем?
Слишком добрая, старая нянька, Гомер, любит баюкать нас чудными сказками, скрывать от нас под олимпийскою дымкою титанические пропасти. Скрыл бы, конечно, и пропасть Атлантиды, если бы знал о ней сам.
Три баснословных острова – Крит, Итака, феакийская Схерия – как бы три скорлупы на орехе, три на окне занавески. Если мы откинем их и заглянем в окно, то, может быть, увидим настоящий остров, такой страшный и святой, что о нем надо молчать, как молчат ацтеки об Ацтлане, кельты – об Аваллоне, халдеи – об Араллу, и египтяне, может быть, лучше всех знающие все, – об Атлантиде.
Греция – упадок Микен, Микены – Крита, Крит – Кро-Маньона, а Кро-Маньон – может быть, упадок Атлантической древности: ряд упадков, затмений, – наступающие сумерки Европы – Сумеречной, Темной, Skoteinê.
Северные варвары, Ахеяне, разгромив Эгею, развеяли по воздуху оплодотворяющую пыль эгейского цветка – Эллинство – до самых стен Илиона, до первой всемирной войны Востока с Западом (падение Трои около 1180 г.). Первое нашествие варваров – Ахейское, второе – Дорийское (1100 г.). Доряне – «змеиный сев», «люди железа и крови» – вводят железное оружье, несут с собою железный век и погружают Грецию в военное варварство, «Средневековье».
Сущность Крито-Эгеи та же, что Египта и Вавилона, – милость, мирность, невоинственность. Золотой век уже погас в Атлантиде, но еще догорает на Крите.
...Нет нам причины страшиться...
Нет на земле никого, кто бы на нас, феакиян,
Злое замыслил; нас боги бессмертные любят; живем мы
Здесь, от народов других в стороне, на последних пределах
Шумного моря, и редко нас кто из людей посещает...
Нам, феакийцам, не нужно ни луков, ни стрел: вся забота
Наша о мачтах и веслах, и прочих снастях мореходных;
Весело нам в кораблях обтекать многошумное море.
(
Odys., XIX, v. v. 200–205; 270–273)
Кто это говорит, феакийцы-критяне или атланты?
Между Гомером и Критом – черный провал, как бы обморок Ахео-Дорийского нашествия; тот же провал – и в самом Гомере, между «Илиадой» и «Одиссеей». Эта отделена от той, как Золотой век от Железного.
На архаической стеле, в Принии (Prinia), изображены огромного роста, эллинский воин, Голиаф, во всеоружии, должно быть, победитель Дорянин, и стоящий перед ним на коленях, в древней одежде, маленький безоружный человек, непобедивший Давид, Критянин: это конец мира, начало войны (Mosso, Escursioni, 251). Все внезапно грубеет, дичает, снова ниспадает в «геометрический стиль» – железную механику, погружается в варварство. Сам Гомер уже полуварвар.
Трудно поверить, что в Кноссе, за две тысячи лет до Эсхила, был театр, и, судя по фестскому глиняному диску, где оттиснуты совершенно одинаковые буквы, видимо, с помощью отдельных, передвижных матриц, как в наших печатных станках, здесь же, на Крите, в III тысячелетии, – значит, до Авраама, – сделана первая попытка книгопечатания (. J. Reinach. Le disque de Phaistos. – Revue Archéol., 1910, p. 2, 17). А Одиссей и Ахиллес уже безграмотны, потому что «злоковарные знаки», semata lygra, на складной дощечке Беллерофонта, вероятно, чародейство, а не письмо (Iliad., VI, v. v. 168–170. – F. Poulsen. Der Orient und die frühgriechische Kunst., 1912, p. 181).
Жалкие лачуги, «курные избы», – жилища Трояно-Микенских вождей, по сравнению с дворцами Кносса и Феста (Формаковский, 191). Глиняные человеческие изваяньица, после Троянской войны, снова напоминают каменный век: глаз, уже продолговатый, живой и умный, в Египте и на Крите, снова становится глупою, круглою дыркою (Poulsen, 108). Как утомительно скучны описания боевых ран в «Илиаде»! Эти закованные в бронзу, дерущиеся и топчущие друг друга, точно разъяренные быки, ахейские воины как тяжки, грубы и унылы, по сравнению с критскими, в тавромахиях, священных боях или играх быков, плясунами-акробатами, юными, легкими, голыми, веселыми, скачущими, перелетающими через спины разъяренных быков!
...Великая нашему сердцу утеха
Видеть, как целой страной обладает веселье.
(
Odys., IX, v. v. 5–6)
Краткое веселье – белые, с желтыми сердцами, маргаритки по черному лаку слишком хрупких камаресских амфор – потухает в долгой скуке войны – «Илиады». Мертвенным холодом ее сменяется живая теплота «Одиссеи». «Илиада» – падение Трои – всей безоружной, бескровной, мирной, Крито-Эгейской, может быть, Атлантической древности, – восстание нового, «железного», кровавого, военного, Европейского века.
Сумерки богов сходят с неба на землю Киммерийскою ночью варварства. Главный упадок, источник всех остальных, – в религии.
Кажется иногда, что у Гомера – не начало, а конец древней веры в богов, и что он почти в такой же мере, хотя, конечно, совсем в ином роде, «безбожник», как Еврипид и Лукиан. Солнечно-олимпийскою дымкою покрывает он черную бездну, куда провалились древние боги. «Видел Пифагор, когда сходил в ад, Гезиода и Гомера в вечных муках, за то что лгали они на богов и кощунствовали», – сообщает Диоген Лаэрций, должно быть, орфический миф. А вот суд Гераклита: «Люди обмануты в познании видимого, подобно Гомеру, а ведь он был всех эллинов мудрее». – «Стоит и Гомер того, чтобы прогнать его с (Олимпийских) состязаний и высечь розгами» (Heraclit, fragm. 56. – Pfleiderer, 34). Страшный суд и, может быть, несправедливый. Но Гераклит, конечно, не хуже нашего знал, кем был, и что для мира сделал Гомер.