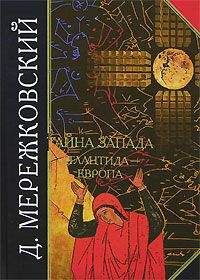Да, истинное несчастье обоих человечеств, древнего и нового, что их величайший поэт и мудрейший учитель – певец не мира, а войны, полубезбожник, слепой Гомер. Вместе с верой в богов, утратил он и веру в царство богов на земле – мир.
Нет и не будет меж львов и людей никакого союза;
Волки и агнцы не могут дружиться согласием сердца:
Вечно враждебны они, злоумышленны друг против друга,
Так и меж нас невозможна любовь; никаких договоров
Быть между нами не может, доколе один, распростертый
Кровью своей не насытит свирепого бога Арея.
(
Iliad., XXII, v. v. 262–267)
Это и значит: «Все будут убивать друг друга». – «В мире конца не будет войне».
«Илиадой», Троянской войной, начинается бесконечная война, та самая, которая через все века всемирной истории длится и до наших дней.
Критяне ближе к нам и к будущему, современнее, «апокалипсичнее», бóльшие сообщники наши в добре и во зле, чем, может быть, все остальные народы древности, – вот первое и главное впечатление от этого восстающего из гроба Лазаря. Он еще нем, но по тому, как подходит к нам, смотрит на нас, мы узнаем, что это наш брат.
В оттисках критских глиняных и каменных печатей – такое множество крылатых баснословных чуд, что кажется, весь тамошний воздух полон трепетаньем, жужжаньем и гуденьем не наших стальных, а живых крыльев (Evans, Palace of Minos, 709). Наша мечта о полете, осуществленная в механике, смутно брезжит и здесь, но в мифе-мистерии – магии. Век Дедала-Икара, первых летунов, не похож ни на один из веков, кроме нашего.
В критских ваяниях и росписях, всюду – игры священных быков, «тавромахии»; бык в «летящем беге» (начало его мы видим уже в Ориньякских и Магдаленских пещерных росписях), а над ним – акробат, «головоход» гомеровский, скачущий через спину быка, перелетающий (Seunig., 35).
В Кноссе найдено изваяньице из слоновой кости такого плясуна – Икара бескрылого: должно быть, подвешенное на цепочке между двух столбиков, над скачущим быком – таким же изваяньицем, качалось оно, как бы реяло в воздухе. В тонком, жадно-вытянутом теле плясуна – такая безмерная воля к полету, что, кажется, во всем мировом ваянии нет ничего подобного (Drerup, 105).
Здесь, на Крите, человек впервые увидел облака, в их тоже «летящем беге», и остановил его, изобразил: этого уже никто не посмеет сделать, до мастеров Итальянского Возрождения (Формаковский, 208). И никто уже не изобразит листьев болотной осоки так, что, глядя на них, кажется, слышишь ночной в них шелест ветра. Оттиск на одной печати изображает ствол облетевших осин, склоненных ветром над водною рябью затопленного луга, с уныло торчащими кольями упавшего плетня, и кажется опять, глядя на эти осины, слышишь свист и вой осеннего, может быть, потопного ветра с дождем, в наступающих сумерках (Evans, 697).
Эта, уже наша, новая, европейская динамика противоположна всей древней, восточной статике – вавилонской тяжести и египетской недвижности. Воля Египта – остановить вечность в мгновении; воля Крито-Эгеи, будущей Европы, а может быть, и бывшей Атлантиды, – окрылить мгновение в вечности.
Hannebu, «Морские племена», так называют крито-эгеян очень ранние, 1-й династии, египетские памятники (Dussaud, 40). Лучшего названья не придумаешь. Все древние всемирно-исторические народы – Египет, Вавилон, Элам, Хеттея – земляные, сухопутные; крито-эгеяне – первое племя морское, мореходное; с ним вступает в историю водная стихия – воля к движению, свободе, простору, безбрежности – окрыленности, такой же на воде, как в воздухе: парус тоже крыло. С Критом Атлантида входит в Европу.
Быстрым вверяя себя кораблям, пробегают бесстрашно
Бездну морскую они, отворенную им Посейдоном;
Их корабли скоротечны, как легкие крылья иль мысли.
(
Odys., VII, v. v. 34–36)
Кто это опять говорит, феакийцы, критяне, или атланты?
Морем еще не запуганы, как ацтеки, тольтеки и гуанчи, может быть, потому, что раньше тех спаслись от общей гибели и самого страшного не видели. Древняя Мать Вода им все еще роднее новой Матери Земли.
Критские изваяния морских животных так совершенны, что Эванс, найдя глиняного краба, подумал, что это естественная окаменелость (Evans, 67). Лепят из фарфоровой или фаянсовой глины ветки кораллов, чтобы вешать на них самые прекрасные, и потому священные, раковины. Это, кажется, больше, чем простое украшение комнат, как у нас цветы в горшках; это маленькие, домашние, морские боги-пенаты, такие же, как у кроманьонов, тоже «Морского племени», первых, может быть, из Атлантиды выходцев (Mosso, Escursioni, 205).
Пол в кносских дворцовых часовнях иногда усеян густо, как морской берег, множеством раковин, а на дворцовых помостах длинные волнообразные, ультрамаринового цвета спирали, кольца и полосы изображают морские волны, зыби и омуты, чтобы и земля напоминала море (Evans, 372).
Падающий сверху, сквозь люки в потолках, вместо окон, из узких «светлых колодцев» – внутренних двориков – волшебно-таинственный, как бы лунный или подводный, свет освещает, в росписях на стенах дворцовых палат, морское дно – леса кораллов и водорослей, с плавающими рыбами и морскими чудами.
Шумно волнуется зыбь Амфитриды лазоревоокой.
(
Odys., XII, v. 60)
Люди живут в домах, как в подводном царстве.
В росписи одной амфоры изображена сетка для ловли пурпуроносных раковин; видно, как выползают из них желтовато-слизистые, скользкие тела животных, запутавшихся в петлях сетки (Drerup, 79); а на других росписях – летучие рыбы, розово-золотистые дорады, зелено-лазурные дельфины, медузы, чудная раковина, «аргонавт» – колыбель Афродиты Пенорожденной и чудовищный спрут-восьминог с вьющимися кольцами щупалец, усеянных множеством жадных присосков-пупырышков (Dussaud, 73).
Глядя на эти росписи, кажется, дышишь запахом «трав морских, напитавшихся горечью влаги соленой», запахом «чуд морских, населяющих хладную зыбь Амфитриды», и самого чудесного из них – Атлантиды.
Соль человеческой крови, может быть, родственна соли того Океана первичного, из которого вышло все живое. Ею насыщена вся Крито-Эгея. Вкус ее последний, уже замирающий, – в «Одиссее» Гомера; новый вкус – в Одиссее ап. Павла, утопавшего в тех же безднах морских, где утопал и древний Улисс.
Очень вероятно, что теперь еще для нас немые знаки критских письмен, когда заговорят, скажут то же, что три главных здешних символа: Лабиринт, Бык и двуострая Секира.
Что такое Лабиринт? Символ «дурной бесконечности», безысходности, вечного, все на одном и том же месте, движения, тщетного бегства от неизбежного и всепожирающего Зверя, Минотавра, живущего в сердце Лабиринта и, увы, в нашем собственном сердце, лабиринте безысходнейшем. Так, для нас; может быть, и для древних так же, но это в конце, а в начале, Лабиринт – круговорот небесных светил – звездная механика-магия.
В северо-восточной России, в Лапландии, в Исландии, Финляндии, Великобритании, Скандинавии встречаются ряды стоячих каменных глыб, расположенных, подобно мегалитным памятникам – кромлекам, менгирам, дольменам, – в виде концентрических кругов – лабиринтов. Это, вероятно, оркестры для круговых, звездных и солнечных плясок, таких же как занесенный с Крита хоровод делосских девушек. Ариаднина пляска, geranos, вихревая, круговая, лабиринтная, во славу умершего и воскресшего бога Солнца (Cook, 489. – Mosso, 256).
Критский ли лабиринт произошел от северных, или те – от него, или, наконец, у тех и других – один общий источник, мы не знаем, но, кажется, Лабиринт – один из древнейших и распространеннейших символов, как бы навязчивая бредовая мысль всего европейского человечества.
Вспомним начертанные ангелом Баракиилом на песке пустыни или на снегу Ермона, под внимательным взором ученицы его, ханаанской пастушки Адды, дочери Ламеха, лабиринтные круги светил; вспомним такие же круги каналов и стен Атлантского Акрополя, в мифе Платона, и острова Ацтлана, в древнемексиканском рисунке-иероглифе; вспомним лабиринтные кружки в татуировке на лбу древних уфийских, нынешних гвинейских негров; вспомним неистово крутящиеся в безднах Океана, крутым кипятком кипящие водовороты-воронки от рушащихся, раскаленных докрасна, целых кусков материка; вспомним все это, и мы, может быть, поймем, зачем и каким огнем выжжено это роковое клеймо Атлантиды, первого человечества, и на челе второго.
Истинный Лабиринт – не внешний (такого на Крите не было), а внутренний, в сердце человека. Но исполинский дворец Кносса – целый город с такою сложностью бесчисленных палат, ходов, переходов, тупиков, закоулков, дворцов, лестниц и ярусов, что можно в них и сейчас заблудиться, – настоящий «лабиринт», хотя и нечаянный, такой же как европейские столицы наших дней или те лабиринты подземных пещер, где жил Ледниковый человек.