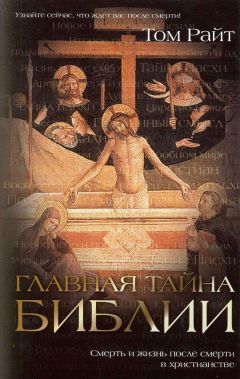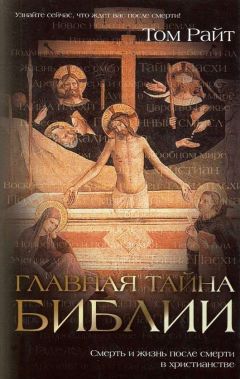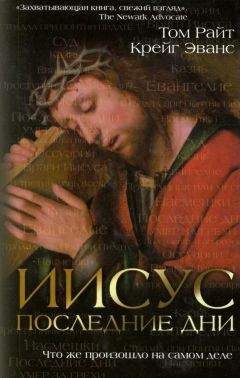Подобный универсализм стал обычной рабочей гипотезой многих богословов и служителей церкви в либеральные 1960–е и 70–е годы и остается твердым убеждением, иногда главным, для многих людей, чье мировоззрение сформировалось в те времена. Мне запомнился такой эпизод первых лет учебы в Оксфорде: мой наставник сообщил мне, что и он, как и многие другие, верит «в возможность существования ада, но этот ад в конечном счете останется пустым» — иными словами, ад превратится в чистилище, в не слишком приятную подготовку к вечному блаженству. Даже сама мысль о последнем суде выпала из сознания в некоторых вероисповеданиях, включая мое собственное благодаря тому, что при публичном чтении Библии соответствующие стихи стали бесцеремонно пропускать. Если вы видите в официальном круге чтений рекомендацию пропустить два–три стиха в каком–то отрывке, можно почти не сомневаться, что речь в них идет о суде, если, конечно, не о сексе.
Но за последние двадцать лет богословская ситуация изменилась. В западном обществе в целом либеральный оптимизм стал все больше казаться неадекватным, и этому соответствовала перемена атмосферы в богословии, которое следовало духу века сего. Мы как будто бы снова оказались в той же позорной ситуации, что и почти сто лет назад, когда Карл Барт страстно отверг либеральную теологию, создавшую благоприятный климат для Первой мировой войны. Мы стали свидетелями событий на Балканах, в Руанде, на Ближнем Востоке и в Дарфуре, а также многих других ужасов разного рода, перед которыми пасует просвещенная западная мысль, так что все больше людей стали думать о том, что суд необходим, и я думаю, это было движение к истине. Суд — верховный вердикт о том, что вот это добро, которое надо оправдать и поддержать, а вон то зло, достойное осуждения, — единственная альтернатива хаосу. Есть понятия, и на самом деле таких понятий очень много, к которым нельзя относиться «толерантно», иначе ты сам становишься пособником зла. Мы всё прекрасно знаем, но предпочитаем об этом не задумываться, так как из–за нашей щепетильности или давления общепринятых приличий нам удобнее соглашаться с мнением большинства. Проблема заключается в том, что богословие, столь долго питавшееся дешевой толерантностью к чему угодно, готовое вбирать в себя все, отказываясь — в стиле глобальной экономики — от многих границ и рамок, становится удручающе расплывчатым и немощным; оно неспособно вскарабкаться даже на низкие склоны суждения о социальных и культурных реалиях, не говоря уже о высочайших вершинах того суда, о котором говорили и писали первые христиане.
Но суд необходим, иначе нам надо прийти к абсурдному выводу, что все хорошо, или к богохульному выводу, что Бога это не заботит. По знаменитому и верному выражению Мирослава Вольфа, чтобы что–то «принять», сперва необходимо что–то «исключить»: сначала нужно увидеть зло, назвать его, каким–то образом ослабить, и лишь потом возможно примирение. Именно этот принцип Десмонд Туту положил в основу деятельности судьбоносной Комиссии правды и примирения в Южной Африке.[201] И самое важное: если злодеи отказываются себя таковыми признать, ни примирение, ни принятие невозможны.
Бог намерен в конечном счете исправить наш мир. Это представление, как и представление о самом воскресении, прямо связано, с одной стороны, с верой в Бога Творца, с другой — с верой в Его доброту. А такое восстановление порядка предполагает устранение всего того, что извращает благое и прекрасное Божье творение, в частности всего того, что уродует творение, носящее образ Божий, то есть человека. Сказать проще, в царстве Божьем не будет «колючей проволоки». И те люди, чье бытие целиком зависит от нее, не найдут там себе места.
Под колючей проволокой здесь понимаются, разумеется, самые разные мерзости: геноцид, ядерная бомба, детская проституция, имперская гордыня, превращение души в товар, идолизация расы. В Новом Завете несколько таких категорий, которые служат красным флажком, предупреждающим, что такая дорога ведет прямо в пропасть. Начиная с Павла первые христиане размышляли о подобных проблемах. В них можно выделить три общие черты.
Во–первых, все они восходят к основной ошибке: к идолопоклонству, к тому, что люди поклоняются тому, что не Бог, как своему богу. Во–вторых, все они носят печать вторичной ошибки: поведения, недостойного человека, то есть люди все меньше и меньше отражают Божий образ. Это «непопадание в цель», где цель — полноценный, свободный и истинный человек; именно таково значение слова грех, hamartia, в Новом Завете. (Стоит заметить, что «грех» не есть нарушение предписанных сверху случайных правил; скорее сами эти правила содержат краткое описание различных форм поведения, которое ведет к утрате человечности.) В–третьих, вполне вероятно — и похоже, мы видим тому примеры на практике, — что идолопоклонство и бесчеловечность пронизывают всю жизнь и свободно выбранные поступки какого–то человека или группы людей, и тогда, если он (они) сознательно не оставит этот путь, то как бы сам отказывается от своей человечности.
Эти соображения заставляют меня думать, что сегодня нам надо заново утверждать доктрину последнего суда. Невозможно, читая параллельно и Новый Завет, и сегодняшние новости в газетах, думать, что в конце не будет ни осуждения, ни окончательной погибели, ни таких людей, которые, по выражению К. С. Льюиса, услышат от Бога последние слова: «Да будет воля твоя». Я хотел бы, чтобы это было не так, но невозможно жить, постоянно насвистывая песенку «Необъятна Божья милость», зная о кошмаре Хиросимы и Освенцима, об убийствах детей и бессердечной алчности, из–за которой миллионы людей становятся рабами долгов, в которых они сами не виноваты. Человек, увы, неспособен вынести слишком много реальности, так что он ослепляет себя с помощью дешевых и уютных теорий вроде универсализма и западного либерализма, которые вносят свой вклад в мировое зло.
Но если в самом деле существует окончательное осуждение тех, кто через поклонение идолам перестал быть человеком и пытался втянуть в эту яму других, мои представления о том, как это происходит, отличаются от обычной картины.
Принято думать, что те, кто отвергли Божье спасение и не пожелали обратиться от идолопоклонства и злодеяний, подвергаются вечным пыткам, сохраняя свое сознание. Некоторые не в меру горячие проповедники и наставники подливают масла в огонь, когда с уверенностью говорят, что за одни поступки человек обязательно попадает в ад, а за другие, хотя он и достоин порицания, может быть прощен. Но в целом общепринятая картина не меняется: погибшие остаются в каком–то смысле человеческими существами и терпят бесконечное наказание.
Против этого возражают универсалисты. Они говорят (и это напоминает слова из «Меры за меру» Шекспира), что Бог явит милость даже к самым отъявленным мерзавцам, к тем, кто устраивал массовые убийства или насиловал детей. Иногда же они используют другой подобный аргумент: даже когда человек умрет, Бог оставит ему возможность покаяться, так что в итоге он не сможет противостоять Любви.
Промежуточный путь предлагают так называемые кондиционалисты. Они пользуются гипотезой «условного бессмертия»: люди, которые устойчиво отвергают Божью любовь и Его пути жизни в этом мире, после смерти просто прекратят существование. Бессмертие, говорят они, не есть (вопреки расхожему платонизму!) врожденное качество человека, оно по праву принадлежит только Богу (о чем пишет Павел), а потому является его свободным даром, который Бог волен дать или не дать.[202] По этой теории Бог просто отказывает в даровании бессмертия тем, кто в этой жизни продолжал безнаказанно поклоняться идолам и тем разрушил в себе подлинного человека. Поэтому иногда эту теорию называют также «аннигиляционизмом»: такие люди перестают существовать. Но, возможно, последний термин чрезмерный, ведь он косвенно предполагает активное разрушение человека, тогда как речь идет о том, что он не просто не получил предложенный ему дар, но и постоянно от него отказывался.
Я описал вам три позиции, а теперь намерен представить свою, в которой сочетаются сильные места первой и третьей. Отказ от традиционных представлений в недавнее время — а за последние два столетия в западных церквах, во всяком случае в так называемых мейнстримных, произошел значимый сдвиг в сторону универсализма — объясняется глубоким отвращением к идее камеры пыток посреди дворца наслаждений, концлагеря посреди прекрасной страны, к мысли, что к радости блаженных примешивается созерцание мучений нечестивых. Даже когда мы говорим себе, что Бог должен осудить зло, если Он действительно благ, и что любящие Бога должны согласиться с таким осуждением, как только мы представляем себе образы ада, мы отворачиваемая от них с омерзением. «Кондиционалисты» успешно избегают этой проблемы, но дорогой ценой, поскольку им приходится забыть о тех местах в Писании, где говорится о состоянии отказавшихся поклоняться истинному Богу и утративших человечность, как о продолжительном процессе.