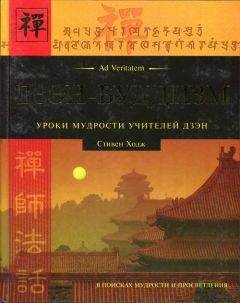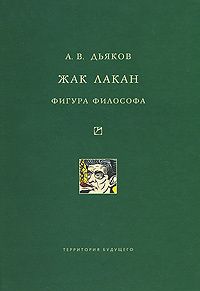Феномен тем не исчерпывается, поскольку ровно так же ничего не может быть понято без вмешательства третьего элемента, введенного мной в прошлый раз, — речи субъекта.
В такой момент желание ощущается субъектом — оно не может быть ощутимо без подключения речи. И этот момент являет собой не что иное, как тревогу в чистом виде. Желание обнаруживает себя в конфронтации с образом. Когда данный образ, который был незавершенным, становится законченным; когда появляется воображаемый лик, который не был интегрирован, а был подавлен, вытеснен, — тогда возникает тревога. Появление такого момента сулит нам дальнейший успех.
Некоторые авторы постарались уточнить его. Стрэчи попытался определить то, что он называет интерпретацией переноса, а точнее, преобразующей интерпретацией. Загляните в XV том InternationalJournalofPsycboanatysis, за 1934 год, номера 2 и 3. Он действительно подчеркивает, что лишь в некоторый определенный момент анализа интерпретация может иметь значение прогресса. Такая возможность предоставляется редко и не терпит лишь приблизительного определения. Тут не может быть никаких вокруг да около, ни позже, ни раньше; лишь в строго определенный момент — когда то, что готово вылупиться в воображаемом, в то же время присутствует в вербальном отношении с аналитиком, — должна быть дана интерпретация, чтобы она смогла осуществить свое решающее значение, свою преобразующую функцию.
Что же имеется в виду, если не то, что это момент слияния воображаемого и реального аналитической ситуации? Как раз это я и пытаюсь вам объяснить. Желание субъекта в такой ситуации является одновременно наличным и невыразимым. Вмешательство же аналитика должно, по словам Стрэчи, ограничиваться именованием его. Это единственный пункт, в котором речь аналитика должна быть добавлена к речи, возбужденно произносимой пациентом в ходе его длинного монолога, словесной мельницы — ведь движение стрелок на схеме вполне оправдывает такую метафору.
В качестве иллюстрации я напомнил вам в прошлый раз функцию интерпретаций Фрейда в случае Доры, их неадекватный характер, а также ту мысленную стену, застопоривание, явившиеся их результатом. Это был лишь первый этап открытия Фрейда. Нам нужно проследовать за ним дальше. Кто-то из вас, наверно, присутствовал два года тому назад на моем комментарии случая "человека с волками"… да, не очень то вас много. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь из вас — может быть, отец Бернарт? потрудился прочитать для нас этот текст. Вы увидите, сколь показательна предложенная мной схема.
Случай "человека с волками" отнесли бы сегодня к разряду неврозов характера, или нарциссического невроза. Как таковой, этот невроз оказывает большое сопротивление лечению. Фрейд обдуманно решается представить нам одну его часть. В действительности, детский невроз — таково название в немецком издании случая "человека с волками" — сослужил Фрейду большую службу, поскольку благодаря ему в теории были поставлены некоторые вопросы, касающиеся функции травматизма.
Итак, мы переместились в 1913 год, т. е. в самое сердце комментируемого нами в этом году периода 1910–1920 гг.
Без "Человека с валками' немыслимо понять то, что Фрейд разрабатывал в указанное время, а именно, теорию травматизма, которой предстоит подвергнуться настойчивой критике Юнга. В этом наблюдении присутствует немало вещей, не упомянутых Фрейдом нигде более, и уж конечно, опущенных в его чистотеоретических работах, — как, например, важные дополнения к его теории вытеснения.
Прежде всего я напомню вам, что вытеснение в случае "человека с волками" было связано с травматическим опытом зрелища совокупления родителей в положении atergo. Данная сцена никогда не могла быть непосредственно припомнена, восстановлена в памяти пациента, она была Фрейдом реконструирована. Положение при совокуплении могло быть воссоздано лишь исходя из травматических последствий в настоящем поведении субъекта.
Безусловно, некоторые из этих терпеливых исторических реконструкций весьма удивительны. Фрейд действует здесь так, как будто он работает с памятниками, архивными документами, прибегнув к методу критики и толкования текстов. Если определенный элемент возникает в некоторой точке продуманным, разработанным, то очевидно, что точка, в которой он появляется менее разработанным, предшествует первой. Таким образом Фрейду удается определить дату обсуждаемого совокупления. Он безоговорочно, с абсолютной строгостью, относит его к дате п+1/2 года. Но п не может превышать 1, поскольку данное событие не могло произойти в два с половиной года по определенным причинам, которые для ребенка мы вынуждены допустить и которые относятся к последствиям такого зрительного открытия. Не исключено, что это произошло в шесть месяцев, однако Фрейд отклоняет данное предположение, так как это ему представляется, на тот момент, едва ли правдоподобным. Замечу мимоходом, он не исключает, что это произошло в 6 месяцев. И по правде говоря, я и сам этого не исключаю. Я даже считаю, что эта дата более подходящая, чем полтора года. Быть может, я теперь же скажу вам, почему.
Вернемся к главному. Травматическое значение взлома в воображаемом, произведенного таким зрелищем, вовсе не обязательно должно было последовать сразу же за событием. Сцена приобретает для пациента травматический характер в возрасте от трех лет и трех месяцев до четырех лет. Мы можем опираться на точные даты, поскольку ребенок родился в Рождество, что стало решающим совпадением в его истории. Именно в ожидании рождественских событий, всегда сопровождаемых для него, как и для всех детей, получением подарков, которые, как считалось, были ниспосланы ему свыше, — он впервые видит страшный сон, ставший для наблюдений Фрейда ключевым. Этот страшный сон является первым проявлением травматического значения того, что я только что назвал взломом в воображаемом. Позаимствовав термин из теории инстинктов, в ее нынешнем виде (а она, конечно, продвинулась вперед со времен Фрейда, в особенности — применительно к птицам), назовем это "Pragung" — а слово это созвучно удару, оттиску, тиснению монеты Pragung травматического события, дающего начало отсчета.
Pragung — со всей ясностью объясняет нам Фрейд — относится сначала к невытесненному бессознательному — позднее мы это приблизительное выражение уточним. Скажем, что Pragung не был интегрирован в вербализованную систему субъекта, что он вообще не достиг вербализации, и даже значения. Такой Pragung, строго ограниченный областью воображаемого, вновь заявляет о себе по мере входа субъекта во все более и более организованный символический мир. Именно это и объясняет нам Фрейд, рассказывая всю историю пациента такой, какой она вытекает из его рассказов, касающихся времени между начальным моментом х и возрастом 4 лет, к которому Фрейд относит вытеснение.
Вытеснение происходит лишь постольку, поскольку события ранних лет пациента исторически развиваются достаточно бурно. Я не могу рассказать вам всю его историю — соблазнение старшей сестрой, которая была мужественнее его и служила одновременно объектом соперничества и идентификации, — он идет на попятную и отказывается от этого соблазнения, для которого у него не было в этом раннем возрасте ни внутреннего стремления, ни необходимых оснований, — затем его попытка сближения и активного соблазнения своей няни, соблазнения, направленного соответственно норме первичной эдиповой генитальной эволюции, но изначально нарушенного соблазном, который он пережил ранее со стороны сестры. И ступив на эту почву, субъект оказывается отброшен к садо-мазохистской позиции, регистр и все элементы которой дает нам Фрейд.
Теперь я укажу вам два ориентира.
Прежде всего, именно введение субъекта в символическую диалектику может дать нам надежду на какие-либо благополучные исходы. Символический мир не потеряет своей направляющей притягательности на всем продолжении развития данного субъекта: впоследствии еще будут моменты счастливого разрешения, обусловленные тем, что в его жизни будут задействованы, в собственном смысле слова, обучающие элементы. Вся диалектика инертного в его случае соперничества с отцом в определенный момент потеряет силу благодаря вмешательству авторитетных лиц — того или иного преподавателя — или еще раньше, благодаря подключению религиозного регистра. Итак, Фрейд показывает нам следующее: в той мере, как субъективная драма включается в некоторый миф, обладающий широкой, даже универсальной, человеческой значимостью, — субъект реализует себя.
С другой стороны, что же происходит в период между тремя годами одним месяцем и четырьмя годами, если не то, что субъект научается интегрировать события своей жизни в определенном законе, в поле символических значений, в человеческом универсализующем поле значений? Вот почему, по крайней мере в эту пору, данный детский невроз представляет собой в точности то же самое, что и психоанализ. Он играет ту же роль, что и психоанализ, т. е. проводит реинтеграцию прошлого и в игре символов задействует сам оттиск Pragung, настигая его лишь в пределе, и притом задним числом, nachtraglich, как пишет Фрейд.