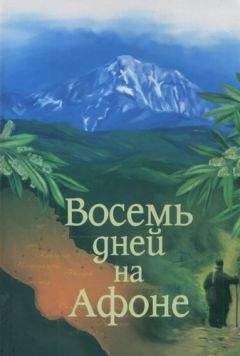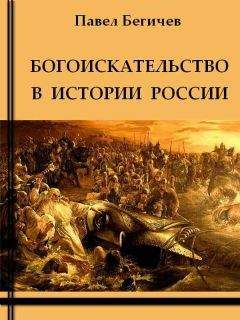Мне бы исполнить. А вот — что исполнить? В чём моё задание на Земле? В том, что оно есть, я не сомневаюсь, иначе зачем бы мне и появляться на свет. Но вот в чём промышление обо мне? Ведь чтобы исполнить, надо знать. Или не обязательно?
С другой стороны — чего мудровать-то: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего своего, как самого себя[134]. Всё просто. Но всегда хочется узнать: чего ещё недостает мне?
А ведь страшно услышать конкретный ответ, потому что придётся исполнять.
И так ли уж я не убиваю, не прелюбодействую, не краду, не лжесвидетельствую, почитаю отца и мать, про ближних вообще говорить нечего…
— Красота-то какая!
Я обернулся и увидел счастливое лицо отца Бориса. И такой он был светлый и радостный, что мне стало стыдно за все насмешки над ним, захотелось прощения попросить.
— Сделать бы здесь три кущи, да? — произнёс он, не зная, что сказать.
— Да, — и не стал ничего просить.
— А придётся уходить-то…
— Придётся.
— Ничего, Пётр, Иаков и Иоанн, как ни хотелось остаться, а тоже с Фавора сошли, а свет в них остался.
Я не знал, как реагировать на такое сравнение, и промолчал.
— Когда пойдём-то?
— Да вот Алексей Иванович с отцом Николаем поговорит, да и можно идти.
Зря я, наверное, так с ближним, надо было помягче, можно было ещё потянуть время, но, видимо, ревностный червячок никуда не делся, продолжал точить и завистливо обращаться в сторону лавочки у трапезной, иначе зачем направлять туда другого? То есть, если и мешать, то пусть это буду не я. Но получилось языком — главным врагом моим.
— Вот ведь — везде успевает, — то ли восхитился, то ли возмутился отец Борис.
— Значит, именно ему надо, — попытался я защитить не столько Алексея Ивановича, сколько себя.
— Я бы тоже хотел с отцом Николаем поговорить, — вздохнул Серёга.
Солнце начинало припекать.
— Пойдём, — сказал отец Борис. — Он уже долго разговаривает.
И мы пошли: отец Борис, Серёга и, прячась за их спинами, я.
Старца мы застали одного под сенью балкончика второго этажа в самом мирном расположении духа.
— Сходили? — обратил внимание на нас отец Николай и поднялся с лавочки.
Отец Борис как духовный представитель нашей троицы, стал делиться впечатлениями, получалось у него восторженно и оттого сумбурно, но главное — искренне.
Отец Николай минут пять слушал, потом снял с головы скуфейку и протянул отцу Борису.
— Примерь.
Отец Борис снял свою, передал её Серёге и водрузил на главу скуфью отца Николая. Покрутил головой туда-сюда и констатировал:
— Как раз!
— Вот и носи.
Я думал, отца Бориса разорвёт от переполнивших чувств. Там, на площадке, он хоть про три кущи вспомнил, а тут разводил руками, хватал по-рыбьи ртом воздух, но нужных слов не находилось, наконец, спросил:
— А как же вы?
— Да мне ещё принесут.
— Благословите! — и отец Борис пал на колени.
— Ну-ну, — тот благословил и спросил: — А к чудодейственной иконе прикладывались?
— А у вас есть чудодейственная икона?! — воскликнул отец Борис, и его лицо осветил трепетный страх, видимо, представил, что ему сейчас за скуфейкой и икону пожалуют.
— Пойдёмте.
И мы пошли за отцом Николаем в храм.
Икона находилась на левом клиросе, как раз рядом с ней я стоял службы. Это была большая икона Богородицы в светлом окладе, унизанная ниточками с дарами. Конечно, мы обратили на неё внимание, когда ещё обходили храм в первый раз. Она выделялась даже не множеством ниточек с дарами, а, если так можно сказать, русскостью. Она была печальна и светла одновременно. Самое лучшее в православии никогда не вызывает одного определённого чувства. Их всегда много и они разом касаются тебя — ты только отзывайся. Но вот эта печаль и этот свет вместе — это русское.
— От этой иконы много исцелений, — сказал отец Николай. — Особенно помогает она больным раком.
И он рассказал, что недели не прошло, как звонил ему паломник, бывший у него полгода назад, и тогда, по совету отца Николая, приложивший небольшую иконку к иконе Богородицы. Так вот, жена постоянно прикладывала маленькую иконку к больному месту и — исцелилась! Врачи так и не могут понять, куда уполз рак? Рассказал отец Николай ещё несколько последних случаев исцелений и говорил так светло, и по-детски так непосредственно переживал истории, что его неподдельная радость о каждом выздоровевшем передавалась и нам. Мы тоже радовались и даже перестали удивляться, что смертельный рак в очередной раз «отполз», — так и должно быть, если притекаешь к Богородице с верой и любовью.
— И вы иконочки приложите, у вас ведь они есть…
Конечно, у нас были маленькие пластиковые иконки — отец Николай всё знал.
Мы с Серёгой сбегали в комнату и принесли купленные в Ивероне иконки. Отец Борис тем временем завладел старцем.
Прикладывая иконки к чудотворному Образу, я старался не отвлекаться на беседующих отцов и всё же нет-нет да и взглядывал в их сторону, и то отец Борис мне казался красным, то чуть ли не зелёным, то казалось, что пот стекает по его лицу, и становилось боязно мечтать о разговоре с отцом Николаем.
Я старался думать о людях, которым попадут освещаемые иконки, и всё же не мог не заметить, как отец Борис едва не бегом бросился из храма. Это повергло меня в ещё большее замешательство, и я невольно стал дольше задерживать иконки на Образе. Между тем к отцу Николаю подошёл Серёга. Я пока продолжал прикладывать, но вот и у меня иконки закончились, я поблагодарил Богородицу, отошёл от чудотворного Образа и услышал окончание фразы отца Николая:
— …не всё же тебе деньги считать…
И тут Серёга вытянулся (хотя он и так под два метра), побледнел, потом согнулся и быстро зашептал что-то старцу. Я остановился и вернулся к Богородице.
Вот так, Божия Матерь, не поговорить мне со старцем. А что бы я хотел спросить у него? Что?
А вдруг он мне скажет такое, что и меня в пот бросит. Вон как отец Борис-то убежал. И Серёгу пробрал, видать, бизнесмен, отца Бориса спонсирует… Ну ладно, а мне что такого может сказать отец Николай?
Об этом безполезно размышлять. Когда я только воцерковлялся, то, готовясь к исповеди, рассуждал: вот я скажу то-то и так-то, а батюшка мне вот так, а я ему следующее и придумывал красивые фразы для ответов на предполагаемые вопросы. Но у меня был замечательный духовник — ни разу я не угадал ни одного вопроса, ни ответа, ни совета. И в конце концов отучился загадывать.
Потом так вышло, что я отошёл от своего духовника. Получилось похоже на взрослеющего ребёнка, который начинает мнить себя познавшим жизнь и жаждет собственных решений, зачем ему советы стариков? Даже оправдание придумали: пусть я совершу ошибки, но это будут мои ошибки, и только так, совершая ошибки, можно научиться их избегать… А там новые ошибки…
А зачем их совершать?
Я продолжал любить своего духовника, но стал всё реже и реже встречаться с ним. Потом построили храм возле моего дома и я совсем перестал ездить к нему. Иногда мы пересекались, радостно троекратно целовались, случались и беседы, но они были непродолжительны. Я чего-то боялся, он, видимо, чувствовал это моё желание дистанции и не давил на меня. Стал обращаться ко мне на «вы». После таких встреч у меня всегда оставался осадок неправильности моего поведения. Будто я проскочил мимо соседей по подъезду и не поздоровался.
Почему я решил, что вырос из его наставлений и больше в них не нуждаюсь?
Между прочим, духовник-то, пока я продолжал совершать ошибки, постригся в иноки, а скоро стал скитоначальником.
Вдруг кто-то толкнул меня, я очнулся и увидел, что отец Николай смотрит прямо на меня, а Серёга стоит чуть в стороне, и взгляд его необычный: вроде смотрит в потолок, а такое чувство, что — на звёзды.
Я шагнул к отцу Николаю.
И в это время в храм влетел отец Борис.
— Нашёл! — радостно сообщил он и потряс фотоаппаратом, как Моисей змеёй в пустыне[135]. — Сфотографируй нас с отцом Николаем. — Это он уже конкретно ко мне.
— Тогда идёмте к иконе, — предложил я и спохватился: — А можно возле иконы-то?
— Отчего же нельзя? Щёлкни. У иконы очень даже хорошо будет. Хоть что-то хорошее сохранится.
Нет, что ни говори, а чудесный всё же батюшка! И как он терпел нас! Мы совсем обнаглели: то так сфотографироваться, то эдак, я попросил отца Бориса тоже фотографом поработать. Тут и Серёга перестал потолок разглядывать — присоединился. А отец Николай улыбался, как старый добрый дедушка, которому оставили на попечение младенцев, те по нему ползают, тискают, разве что за бороду не таскают, а ему всё в радость — что с детей взять-то?
Наконец фотографироваться надоело.
— Всё, что ли? — спросил отец Николай и снова посмотрел на меня.