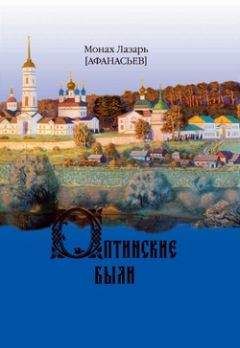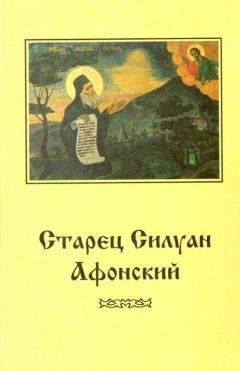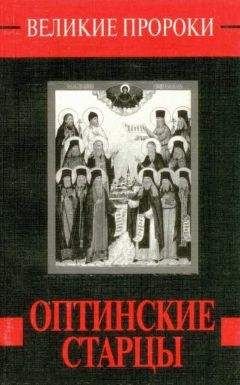Летом I860 года, незадолго до своей кончины, старец Макарий поехал в Лаврентьев монастырь, который стал с некоторого времени кафедральным в епархии, чтобы проститься с епископом Калужским Григорием, отъезжавшим в Петербург для присутствия в Синоде. Там, в памятной с детства обители, он со своими спутниками, иноками из Скита Оптиной Пустыни, отправился на кладбище, откуда открывался вид на тот холм за речкой Ячейкой, где стоял дом его родителей и где провел он младенческие годы. Дома уже не было, он был продан на своз, то есть кем-то куплен, разобран и увезен. За парком виднелись ветхие крыши сельца Железники. По склону холма к речке так же весело сбегала светлая березовая роща… Вздохнул старец.
Отсюда пошел старец Макарий по кладбищенской аллее искать могилу иеромонаха Павла, бывшего настоятелем Площанской пустыни, постригавшего его некогда в монахи. Могилка оказалась заброшенной, поросла травой…
– Вот и нам всем предлежит путь, – сказал старец задумчиво. – Одному ранее, другому позже… А мне уж и пора.
Это было в июле. А 7 сентября старец Макарий после тяжкой болезни скончался в своем родном Скиту. Как записал тогда скитский летописец: «Наступило утро того дня, в который Господь благоволил поять к Себе душу верного раба Своего».
Не ошиблась Елизавета Алексеевна, мать старца, сказавшая некогда о своем маленьком сыне: «Сердце мое чувствует, что из этого ребенка выйдет что-нибудь необыкновенное».
Иеромонах Платон (Покровский), помощник старца Макария в деле Оптинского книгоиздания, был человек образованный. Учился он в Тамбовской духовной семинарии в одно время с будущим Оптинским старцем Амвросием, с которым тогда был дружен. Но в монастырь пришел позже о. Амвросия. В миру звали его Павел Степанович. Еще не будучи постриженным, он жил в Иоанно-Предтеченском Скиту и был одним из келейников старца Макария. К монастырской жизни привыкал он с трудом, и иногда у него появлялся помысел об уходе назад, в мир… Но все же любовь к жизни духовной, молитвенной, преобладала в нем, – и Господь Бог, видевший его сердце, удерживал его в ограде. Он был музыкант, то есть играл на скрипке, хорошо пел. А в Оптиной стал регентовать на клиросе. Вот несколько эпизодов из его воспоминаний о старце Макарии.
«Одно время, когда я шел к старцу, скрипичная музыка особенно одолевала меня. Всю дорогу воображением я наигрывал разные увертюры, вариации и т. д. Когда же вошел в келлию к батюшке, он, как старец прозорливый, встретил меня такими словами: "Что ты все играешь? Какие там польки, вальсы, мазурки? А по-нашему вот как…" И так как старец в миру сам был скрипач, то начал тут же руками представлять игру на скрипке, копируя меня и вместе приговаривая: "Барыня, барыня…" Старец действовал руками с проворством и искусством артиста и принял такую позу отчаянного скрипичного игрока, что я, удивленный этим явлением, рассмеялся и совершенно растерялся. "Вот как по-нашему, – прибавил батюшка, живо выпрямившись и приняв обычное свое, но веселое положение. – А то что там по-французски… завывает, завывает". Рассмешив меня этим до крайности и вполне утешив, батюшка меня отпустил… Вот уже более десяти лет живу я в Скиту, и прежние скрипичные грёзы уже не беспокоят меня…
Пришел я однажды к батюшке испросить у него благословения пропеть в церкви вместо причастного стиха вновь расположенный по нотам догматик 6-го гласа: "Кто Тебе не ублажит, Пресвятая Дево…". Батюшка в это время сидел в своей келлии один за письмами. На мою просьбу он, положив на стол перо, начал рассматривать принесенные мною ноты. Наконец, послушав от меня напев догматика и, без сомнения, желая преподать надлежащее понятие о пении церковном, и притом разумном, он сказал мне: "Ну что ты разучиваешь все новое партесное? Ну что в нем особенного? Как его можно сравнить с нашим церковным пением? Мы вот как этот догматик певали". И старец запел его по церковному напеву. Строго церковное его нотное пение проникнуто было самым искренним чувством вполне понимаемого им песнопения. Он воспевал Небесную Царицу Деву, как бы стоя пред Ней и созерцая славу Ее. Я забыл свои ноты и с изумлением глядел на поющего старца и не мог надивиться: как это у такого маститого старца, строгого подвижника, мудрого учителя, такое детски-нежное чувство, такая пламенная, младенчески-верующая любовь к Божией Матери! Батюшка чем дальше пел, тем глубже проникался чувством песнопения. Голос его уже начал дрожать. И лишь пропел он: "Быв человек нас ради…", – пение его прервалось. Слезы полились у него ручьем. Склонив голову, он плакал сильнее и сильнее и наконец зарыдал, как дитя, оторванное от любящей его матери – единственного утешения. Долго стоял я, изумленный таким явлением. Прошло с полчаса, а рыдания батюшки не прекращались. Вместе с тем виделось в нем такое глубокое чувство смирения и пламенеющей любви к Господу и Пречистой Богоматери, что мне даже стало стыдно и смотреть на него».
Биограф старца Макария архимандрит Агапит, приведя эти воспоминания, далее рассказывает следующий случай: «Оптинский Скит окружен деревьями громадной величины и внутри засажен разными плодовыми деревьями, ягодными кустарниками и множеством разнородных и разновидных цветов, так что все здания его в летнее время утопают в зелени и цветах. А известно что роскошная растительность – излюбленное место для птичек Здесь порхают и чирикают разных пород мелкие пташки. Но из всех них выделяются, как и всегда выделялись, своим приятным пением соловьи. Любили (да и теперь, вероятно, любят) некоторые из монахов в вечернюю летнюю прохладу послушать пернатых певцов. Но вот несчастье – соловьи мало-помалу стали исчезать. Причиною же сего оказались кошки, которые усердно ловили их для своей потребности, не различая соловьев от мышей. Между прочим, старец Макарий любил держать в своих келлиях кошек как полезных домашних зверьков, способных истреблять известных вредных грызунов, только отнюдь не любил ласкать их. Павел Степанович, как любитель соловьиного пения, возревновал против этих неразборчивых истребителей. В досаде на них и, вероятно, надеясь на обычную снисходительность старца, он пришел к нему и бесцеремонно начал говорить: "Благословите, батюшка, побить кошек". Озадаченный такой неожиданной просьбой и видя в просителе настойчивость и несмиренное расположение духа (что в монашестве считается нестерпимым злом), старец, со своей стороны, спрашивает: "За что же, за что их побить?" – "Да как же, – отвечает тот, – они всех соловьев поели". – "Ну так что ж? – продолжал старец. – Это их естественное свойство". Да как затопочет ногами, зашумит на Павла Степановича: "Ах ты, сякой такой! Ишь затеял что!" Павел Степанович повернулся было к двери уходить, как старец начал поддавать ему подзатыльники. И стучит, и шумит, и под затылок поддает. Хотел было Павел Степанович поскорее выбежать вон, но так растерялся, что ощупывает руками дверь и никак не может ее найти, а старец продолжает штурмовать. Наконец он кое-как выбрался на дорожку и от сильного огорчения тут же дал себе слово непременно хоть куда-нибудь уйти из Оптиной Пустыни, говоря, что тут каторжная жизнь. Сложившись с таким помыслом, он уже и от старца отшатнулся: дня два или три ходит мимо старца, не кланяется ему, ни под благословение не подходит и даже не смотрит на него. Видит старец, что Павел огорчился до крайности. Пришел как-то сам к его келлии и сотворил по обычаю монастырскому молитву. Послышался внутри келлии ответный «аминь». "Благослови, брате, войти", – сказал старец. Был ответ: "Бог благословит". Вошел старец, помолился на святые иконы и затем с краткою речью обратился к Павлу Степановичу: "Павел Павел! Ты обиделся на меня? Обиделся? Ну, прости меня". И вдруг кланяется ему в ноги. При воспоминании о сем о. Платон сказывал: «Это глубочайшее смирение великого старца, имя которого в свое время славно было не только по всей России, но и за пределами ее, поразило меня до глубины души. Весь в слезах, мгновенно и сам я бросился к старцу в ноги, прося простить меня, малодушного, неразумного грешника. А любвеобильный старец тихо продолжал свою речь: "Что же ты уж и от меня-то ничего не хочешь понести? И если от меня не терпишь, то от кого же возможешь потерпеть что-либо?" Далее старец говорил о том, что терпеть скорби необходимо, что необходимы нам душевные потрясения для нашего же спасения. Так поучив меня, он удалился из моей келлии. Обуреваемый доселе разными сопротивными помыслами, я почувствовал в душе невозмутимый мир и тишину. И после такого случая, – прибавлял о. Платон, – еще более, бывало, полюбишь старца, а о выходе из обители и забудешь совершенно". Впрочем, это едва ли не единственный был случай во все время пребывания о. Платона в Скиту при старце Макарии в продолжение лет десяти. Вообще же старец всегда относился к нему с любовью и снисходительностью».